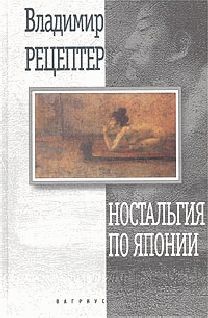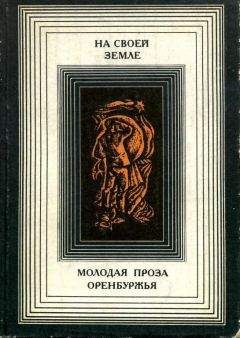Петр Краснов - Понять - простить
— Но вы сами, Семен Петрович, о бесах мне давали читать из епископа Феофана.
— Давал.
— Как же вы дали себе подпасть диаволу? — А вы не подпали?
— У меня особые обстоятельства…
— Слыхал… Это все так, спервоначалу. У кого жена, у кого дети, или родителей престарелых спасать надо. Что же, дело житейское и очень даже понятное. Хорошо… бесы… А ежели нам с бесами-то удобнее? Ишь ты! Голод кругом, — а мне товарищ Минин стерлядей живых прислал. А вы бы поглядели, Федор Михайлович, как иду я по вокзалу, и толпа кругом. Рабочие, мешочники, голодные, умирающие, ну и ваш брат офицер там есть, образованные тоже — и шепот кругом восторженный, подобострастный: "Товарищ Заболотный идет! Дайте дорогу Заболотному". Ведь они мне руки целовать готовы! Что же, и в них бес?
— Да, и в них.
— А они, чать, Богу молятся. По церквам колонки обивают. Ну, пускай, я сволочь, так какая же они-то, значит, сволочь! Они и плевка моего не достойны.
— Они, Семен Петрович, запуганы террором, казнями. Их понять нужно и простить.
— То-то запуганы! Нас, коммунистов, кучка, и как их запугали, подумаешь! Кабы они не сволочь были, восстали бы.
— Пробовали, да что вышло? Их и Бог, и история поймут и простят, а нас и не поймут и не простят.
— А если покаемся? — хитро, по-мужицки, медвежьими своими глазками посматривая на меня, сказал Заболотный.
— Никакими слезами нашего греха, Семен Петрович, не отмоешь.
— Слезами… Да… А ежели кровью?
— Какой кровью? — воскликнул я. Заболотный пригнулся и близко, в упор заглянул мне в глаза.
— Жидовской…
Кровь… Кровь… Она везде и всюду. Она потоками льется на Колчаковском, Донском, Деникинском, Украинском фронтах, она льется в застенках чрезвычайных комиссий, она льется по дворам и сараям, по площадям и улицам. Вчера на рынке красноармейцы делали облаву на мешочников, и один из них, так, здорово живешь, ради потехи, убил бабу. И ничего, никто не возмутился, никакого расследования не было. Не было никакого «происшествия», потому что теперь это не происшествие.
Москва неузнаваема. Снежные сугробы с протоптанными узкими тропинками, ледяные сосульки в три аршина, разобранные заборы, полуразрушенные дома. Из окон выведены наружу железные трубы печек-буржуек, и дымят во славу Третьего Интернационала. Мороз сковал миазмы испорченных водопроводов и загаженных дворов. За нуждой останавливаются по переулкам, не стесняясь, — и мужчины, и женщины. Так, вероятно, было при Царе Иване.
Синее, ясное и кроткое небо блистает, как парча. Мороз покрасил бледные, исхудалые щеки женщин и детей.
Все улицы полны людьми в рубищах. Детишки куда-то бегут, идут советские чиновники, выстраиваются хвосты. Какая-то видимость жизни кругом, среди скелетов домов, под ногами тихо шествующей смерти.
И все-таки прекрасна Москва! Перламутром и эмалью, золотом и багрянцем горят купола Василия Блаженного. В дымке инея, точно в нежном кружеве, исщербленные, разбитые стены Кремля. В голубизне вечного неба сверкает колокольня Ивана Великого, и что ее белой громаде до того, что Ленин засел в Кремле. Видала она и хуже времена. Помнит котлы с человеческим мясом на московских площадях, помнит такие же разбойничьи банды, помнит поляков, французов и лошадей в Успенском соборе.
Всем видом своим говорит она мне, златоглавая Москва: "Все проходит".
Разговорился с комиссаром. Он молодой человек, кончил университет, когда началась революция. Он горд своим положением. Он много читает, всего хочет сам добиться, быть тем, что англичане называют "Self made man" (Человек, сам себя сделавший (англ.)). Мы говорили о евреях. Комиссар мой русский, сын хороших родителей, с юга России.
— Это хорошо, что евреям дано равноправие, — сказал он. — Это нужно. Пусть научится русский народ бороться и побеждать…
И на лице его было: "Как я!"
— Вы посмотрите, в Англии, Америке, во Франции, благодаря равноправию евреев, создалась благородная конкуренция, и это выковывает сильные, железные характеры, каких у нас нет.
— А вы не боитесь, — сказал я, — что при дряблости славянского характера, неподготовленности его, все время опекаемого правительством, к такой борьбе это кончится победой евреев над русскими? Теперь уже три четверти высших мест занято евреями.
— Это же понятно, — воскликнул он. — Евреев так долго угнетали в России, что когда они дорвались до власти, им хочется насладиться ею.
— Я боюсь, что это наслаждение дорого обойдется России.
— Вы все о России, — сказал мне комиссар, кладя мне на руку свою тонкую, бледную руку с выхоленными длинными ногтями. — Неужели не можете забыть?
— Что забыть?
— Все… Все прошлое. Поймите, надо так себя настроить, как будто не было прошлого. Я родился в 1899 году, и до этого времени, даже больше, до 1917 года, 25-го октября — ничего не было. К черту историю! Ни Петров Великих, ни Наполеонов, ни Маковских, ни Айвазовских — никого. Никаких героев. Герои — это мы. И то для настоящего, а не для будущего. И вы посмотрите, как мы творим! Каково наше пролетарское искусство!..
— Кубы и пирамиды. Безвкусное сочетание красного с белым и желтым. Тяжелые языческие капища и трупный смрад. Что-то не хочется этого.
— В вас говорит эстет прошлого. Привыкнете — полюбите.
— Забыть Пушкина и увлекаться Демьяном Бедным, променять Лермонтова и Ал. Толстого на Маяковского и Мариенгофа! Заменить живопись кубизмом, а красивое Русское искусство лубком и матрешками! Постоянно видеть только гримасу, только карикатуру на русский быт! Бросьте. Новое — не искусство!
— Привыкнете.
Мы проезжали мимо храма Христа Спасителя. Белая громада под золотыми куполами в синеве неба казалась воздушной. Много красот видел я на своем веку, но такого гармоничного сочетания неба, — какого угодно: покрытого тучами, или синего, или молниями искаженного, затянутого дождевыми струями, но всегда глубокого и беспредельного, — золота куполов и белого камня — я не видел нигде.
— Что же, — сказал я комиссару, показывая на храм, — вы отрицаете и эту красоту?
Комиссар прищурился и критически посмотрел.
— Самодержавен очень… Мы лучше построим.
В снегу валялись орлы и голова императора Александра III с поверженного памятника. Стая ворон снялась с остатков его и полетела, черными зигзагами чертя небесный свод.
"То-то создадите вы что-нибудь, — подумал я. — Разрушать вы мастера, а созидать?.."
Я ничего не сказал. Говорить было бесполезно. И так рисковал я своей головой и жизнью Наташи.
Нет, они создали. Они создали своеобразный советский быт. Я наблюдаю его у Липочки.
Молодежь счастлива. Маша шепчется с Леной и, когда застанешь их вместе, они отскакивают друг от друга, и обе смущены. По вечерам они ходят по кинематографам, театрам, а более того — по танцевальным залам. Их развелось бесконечное количество под самыми разнообразными названиями. Есть с именами Карла Маркса, Либкнехта, Розы Люксембург, — все такими родными русскими именами. Но называли их просто — танцульками. Танцуют новые танцы: фокстрот и уан-степ, с новыми кавалерами — матросами и чекистами. Андрей, с развратным лицом уличного мальчишки, ворует где попало и что попало, но он брат «содком» — содержанки комиссара — и ему на все наплевать. О старшем, Венедикте, узнали, что он убит у Деникина.
И среди этой семейки — замученная, исхудалая Липочка. Что-то продает, таскает на плечах тяжелые мешки с картофелем и, когда вечером сидит у горящей «буржуйки» и что-то варит, — страшно смотреть в ее провалившиеся глаза.
Нет, ей Господь простит.
Простит и гибель сыновей, и разврат дочерей, и ее непротивление злу. Когда она боролась? Она, замученная жизнью с детства, всю жизнь плыла по течению. Она не создана для борьбы.
— Сегодня, Федя, удалось картошки два пуда наменять, — говорит она мне слабым голосом. — Хорошие люди попались. Не надули. Как-нибудь зиму протянем. А там Деникина и казаков, Бог даст, сломим, и хлебушка подвезут.
Она не думает, что у Деникина мои три: Святослав, Игорь и Олег, что у казаков спрятана моя родная Лиза. Ей — хлеб. А им — мученическая смерть.
— Ты бы, Федя, добыл нам немного кофею настоящего и сахару. Так иногда кофейку захочется.
— Добуду, родная…
Буржуйка дымит. В комнате темно. Сидим. Молчим. Поздно вечером придет Венедикт Венедиктович. Былого оживления и следа нет.
— Ну, что наработал?..
— Ничего! Два фунта воблы только и очистилось. — А служба? — спрашиваю я.
— Служба!.. служба!.. Какая там служба! Только по железным дорогам почту и гоняем. Настоящего-то почтового тракта нет. Лошадей, где по реквизиции забрали, где просто пораскрали, где с голода подохли… А помнишь, Федя, у нас в Джаркенте! Почта на пяти тройках!.. Бубенчики звенят! Грациозно это выходило… Да и что посылать?.. Писем никто не пишет. Только казенные пакеты да тюки с «Известиями» и «Правдами». Нелепица какая-то… Да у тебя-то, Федя, есть разве служба?..