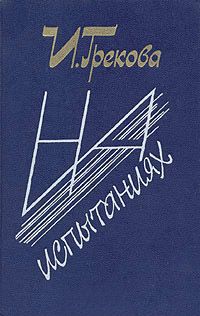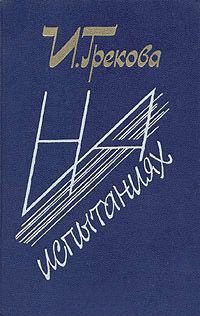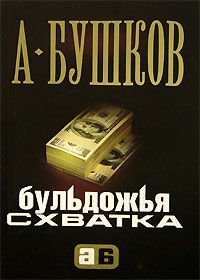Ирина Грекова - Перелом
Мите тоже было некогда: ждали в больнице. Он осматривался с неприязнью:
- А все-таки мне это тяжело, мама, понимаешь?
- Понимаю. Но тут мне будет лучше.
Лучше ли? Сама сомневалась. Проводила Митю в переднюю. Обняла. Поцеловались. Ушел. И не улыбнулся.
Только после его ухода, осматриваясь в незнакомой квартире, спросила себя: а где же вторая комната? Где будет жить сам Чагин? Второй изолированной не было, была проходная. Большой книжный шкаф отгораживал в ней пространство, закуток: узкая тахта, ночной столик... Его жилье! Из-за меня...
Куда уж теперь деваться? Назад не поедешь.
Все очень просто, чисто. Чисто и просто во всей квартире; И очень тихо. Было слышно, как в кухне вздыхал холодильник. Человеческим вздохом. Наверно, меня не хотел.
Разобрала вещи. Платья развесила в шкафу, белье по полкам. Устала, села. Избегать стояния и ходьбы... Костыли поползли в сторону, стукнули об пол.
Правильно ли сделала? Верно ли решила? Стеснила человека, в сущности постороннего. Но теперь уже поздно менять решение. Новый слой жизни. Надо в него входить. Учиться жить заново.
Новый слой начался по-настоящему, когда пришла первый раз на работу. Пришла, верней, притащилась - на костылях. Стыдно, хотя стыдиться тут нечего. Хуже всего было увидеть себя в зеркале. В том самом, высоченном, во весь простенок. В котором когда-то любила видеть свое отражение белое, стройное, туго стянутое в поясе. Теперь - чужая женщина, мешком повисшая на костылях, серолицая, полуседая. Другой человек.
Сослуживцы-врачи были предельно предупредительны. Подвигали стул: "Садитесь, Кира Петровна!" Хотелось спросить: "Что вы со мной, как с сырым яйцом?" Нина Константиновна, глупая гусыня, приговаривала:
- Ничего, родная, не переживайте. Главное - хорошо питаться, дышать свежим воздухом не меньше двух часов ежедневно. Через пару месяцев вы себя не узнаете!
С каких это пор я для нее "родная"?
Новая зав. отделением, нестарая, собой недурная, приняла меня любезно-настороженно:
- Мы вас перегружать не будем. Полставки, три дня в неделю. И, разумеется, никаких дежурств! Николай Максимович мне все объяснил. Ваши заслуги перед больницей, долголетний стаж, опыт...
Перестарался Главный, создавая мне "щадящие условия"!
- И что же я буду делать эти три дня?
- О, дела для вас хватит! Помогать врачам советом. Подменять, если кто заболеет... Оформлять документацию...
Только этого мне не хватало! Прямо - к Главному. Вскочил из-за стола, поцеловал руку (опять пришлось отдирать ее от костыля):
- Кира Петровна! Золотко! Наконец-то!
- Я насчет работы. Я бы хотела работать, как все другие врачи. Дежурить...
- Я как раз хотел создать для вас режим наибольшего благоприятствования.
- Мне он не нужен, этот режим.
- Вам он как раз предписан. В ваших документах... Если я его нарушу, придется отвечать.
- Но я...
- И не заикайтесь!
Я не заикнулась и вышла.
Что ж, пришлось приступить к работе в этом самом "режиме наибольшего благоприятствования". Единственное, от чего я категорически отказалась, это от оформления документации (почерк!). Никто спорить не стал. В остальном мои обязанности были неопределенны. С советами к врачам я не лезла, а они не спрашивали.
К счастью, Нина Константиновна, прежде опасавшаяся хворать, стала брать бюллетени все чаще. Ее больные стали почти "моими"...
Все бы ничего, если б не костыли проклятые! Как трудно на них дойти до ординаторской, до палаты! Как гнусен стук резиновых наконечников: туп, туп... Я сама себя ненавидела на костылях.
А самое тяжелое - это жалость в глазах больных. Они меня жалели - не я их.
Казалось бы, приобретенный опыт - ведь сама побывала по ту сторону преграды! - должен был сделать меня лучшим врачом. Ничего похожего! Из-за преграды я вернулась но лучшим врачом, а худшим.
Как ни странно, иногда полезнее мало понимать. Преграда, отделяющая врача от пациента, по-видимому, полезна. Врач должен быть для больного существом высшим, почти недоступным. Его снисхождение должно восприниматься как милость.
Пока я была в полной форме, пока больные любовались, гордились мной, они как-то больше мне верили.
Эта преграда, которую я осознала, оказавшись по ту сторону, стала у меня чем-то вроде навязчивой идеи. Она преследовала меня, играла со мной в прятки, все время меняя место. То она отделяла меня от больных, то от коллег-врачей. А то и вовсе распадалась на части, что-то загораживавшие, а что-то - нет.
Мучительно не хватало мне былой авторитетности, самоуверенности, а главное, счастья! Как это ни парадоксально, врач, чтобы хорошо лечить, должен быть счастлив. "Врач одним своим видом должен вселять в больного бодрость, надежду, веру в выздоровление", - кажется, что-то в этом роде говорила я в прошлой жизни сыну Мите. А какую бодрость могла вселить в больного я теперешняя, убогая, на костылях?
Так что первое время работать было тяжело. Прибавьте к этому мое неопределенное, межеумочное положение в больнице. Отсутствие четких обязанностей. И работу свою я теперь любила по-новому - смиренно, сомневаясь в себе. Без азарта прежнего, без запоя, без трепета. Просто ходила - и все.
Сына Митю - теперь уже врача - я видела редко. Работал в другой больнице, на окраине. Правда, город не велик, но расстояние порядочное. Занят был по горло - дежурства, дежурства... Иногда все-таки выбирал время, заходил ко мне. Я поила его чаем в кухне, все еще не ставшей моей. Суховат, точен, немногословен. Видимо, неплохой специалист. Иногда даже помогал мне советом. Но улыбки его не было - Митиной улыбки, которую я так любила... Порой хотелось попросить: да улыбнись же!
Они с Люсей и двумя девочками жили теперь в моей бывшей комнате. В моей бывшей квартире, которая все больше становилась не моей, Люсиной. Только кариатиды да мраморная лестница оставались прежними; внутри - все другое. Девочки - Нюра и Шура - миленькие, но застенчивые. Меня дичились.
- Мама, это временно, - не уставал повторять Митя. - В любую минуту, если тебе будет там плохо, мы твою комнату освободим.
Не понимал, что мне не "там" плохо, а вообще. Где бы то ни было. С самой собой плохо.
Валюн с Наташей по-прежнему обитали во второй, бывшей "мальчишьей", комнате. Как-то случайно дверь туда осталась открытой, и я, проходя, ужаснулась. Это уже не беспорядок, а помешательство. Кучи обуви, одежды, куски хлеба, грязная посуда. Никогда не убираемые постели...
Самих "молодых" я видела редко. Валюн - чужой, уже не говоря о ней. Жили по-прежнему, как птицы небесные. Ссорились, мирились, пропадали, появлялись, нигде не учились, нигде не работали...
"Что же ты их не призовешь к порядку?" - спрашивала я Митю. Он только рукой махал. Мою денежную помощь отвергал категорически: "Сам теперь зарабатываю". - "Много ли?" - "Пока хватает".
Люся тоже отказывалась от денег: "Что вы, Кира Петровна! Все равно мы с Дмитрием Борисычем собирались комнату снимать!" Ходила ко мне раз в неделю делать большую уборку (мне с костылями не под силу). Была немногословна, сдержанна.
Так все и шло. Не то чтобы хорошо, но и не совсем плохо. Временно.
Настоящего дома у меня не было. Было жилье. Был хозяин жилья, Чагин, всегда вежливый, внимательный, до крайности ненавязчивый. Обедали мы порознь - в больнице или в соседней пельменной. Но по вечерам пили чай по-домашнему, в кухне за круглым столом, под сенью молочно-матового абажура с бисерной бахромой. "Еще родительский, - сказал как-то Чагин, помню его сколько себя". Как мог этот абажур сохраниться? Ведь война была, оккупация? Удивилась, но ни о чем не спросила. Его жизнь, его абажур. Его прошлое. Ни о чем таком речи не заходило. Как только разговор грозил туда соскользнуть, Глеб Евгеньевич властно его останавливал. Сегодняшний день пожалуйста. Моя жизнь - сколько угодно. Его жизнь - ну нет.
О плате за комнату - "по улыбке в день" - он не вспоминал, а я тем более. Был властен, внушителен, даже загадочен со своим оранжевым, из-под крутых век, немигающим взором. При нем я себя чувствовала в высшей степени "по ту", а не "по эту" сторону преграды. Я - больная, он - врач.
Обсуждали мы, между прочим, и эту проблему. Я жаловалась: после перелома никак не могу найти свою позицию в жизни. То, что было когда-то легко и просто - контакт с больным, - стало трудно, иной раз невозможно.
- Все "я" да "я", - перебил меня Чагин. - Как это "я" крепко в вас сидит! Как "я" выгляжу, да правильно ли "я" поступаю, да любят ли меня больные... А ну-ка бросьте это "я" к черту! Постарайтесь заняться чем-то другим, кроме своей драгоценной персоны.
Обиделась:
- Я, слава богу, работаю.
- Этого мало. Надо иметь перед собой цель. Впереди, а не позади. Не сокрушаться о прошлом, а думать о будущем.
- У меня будущего нет.
- Врете, простите за грубость! У каждого, пока он жив, есть будущее. Хватит вам размышлять да в себе копаться. Поставьте перед собой конкретную цель: перейти с костылей на палку.