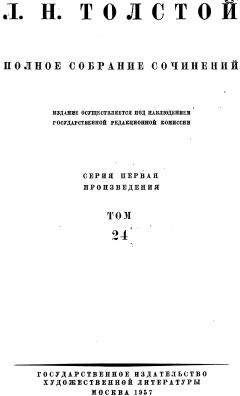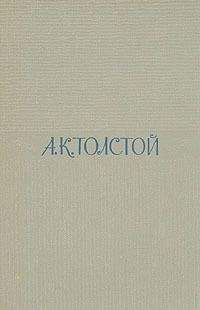Виктор Лысенков - Тщеславие
Он уже обмяк - и это видели все. Вот так - и без удара можешь стать как мешок с опилками. Ему было уже ничего не интересно, он чаще всего был погружен в себя и думал, куда, когда и как уйти. С момента разговора с Халимовым прошло больше месяца. Он уже дважды врезал по крупному, ожидая катастрофы (рано или поздно ему прямо укажут на дверь. Но никакого приемлемого варианта не подворачивалось). Но предложение поступило оттуда, откуда он не ждал. Возле ЦК, куда они возили новые фильмы для показа, его остановили один из прежних знакомых по университету. Сергей добродушно поддерживал на тренировках Рахимова, видя, что парень - с хорошими физическими кондициями, но нервничает, от этого иногда не может принять простую подачу соперника, и сам подает не лучшим образом. Но блок держит отлично: высокий прыжок, мощные руки. Рахимов почти сразу перешел к делу: "Я слыхал, что у тебя там не все гладко? Есть два варианта: нам нужен редактор в журнал "Блокнто агитатора" (вот этого мне только не хватало) и есть должность помощника у министра здравоохранения". Сергей поблагодарил Джуру: "Ну, ты же знаешь, что я - беспартийный (не будет же он объяснять ему, что лучше пойти грузчиком на станцию. Или разнорабочим на стройку, чем заниматься этой мататой). А в министерство... Там не нужно медицинское образование...". - "Не обязательно. Министру нужен грамотный человек, кто толково мог бы написать справку в ЦК в Совмин, подготовил грамотное выступление". И, улыбнувшись, Джура заметил: "Ты же знаешь, что в двух вещах - искусстве и медицине все все понимают. Что такое аспирин - анальгин - тебе известно. А это - почти вся медицина. Я, старик, лежал тут в нашем стационаре (правительственном - понял Сергей). Так диагноз себе ставил я. И препараты выбирал сам. Представь: никто из врачей ни разу не спросил, на что у меня аллергия. А мне, например, категорически противопоказаны антибиотики. И это обнаружили врачи еще в пятьдесят восьмом, когда ходил тот жуткий грипп. Вот так, мой дорогой. И министром сможешь быть, а не только помощником. Будешь читать журнал "Здоровье" и сможешь выступать даже на теоретических конференциях". Ждура улыбнулся: "Если надумаешь - позвони мне". Он назвал номер отдела науки. Сергей, расставшись с Джурой, на всякий случай номер записал по свежей памяти.
Вечером он позвонил своей знакомой пассии в институт гастроэнтерологии. Лариса ответила успокаивающе: "Вообщде-то мы - академический институт. Но, как понимаешь, с минздравом контачим часто. Скажу одно: в республике всего три министра - русские: связи, строительных материалов и здравоохранения. (не считая КГБ, - отметил про себя Сергей). И у нашего (я называю его нашим, несмотря на разные ведомства) - очень хорошая репутация. Мы с ним сталкивались несколько раз. Спокоен, не придира по мелочам. Предпенсионный возраст. А это значит, что ни с кем он ссориться не будет. Достаточно?". Сергей поблагодарил Ларису, и на ее вопрос, зачем это ему нужно, ответил прямо: "Да вот хочу стать медицинским начальником". И - объяснил. Лариса засмеялась: "Давай давай. Только окончательно не спейся. (она знала его по газетным временам и последние - чиновничье - благообразных три года с хвостиком не общалась с ним).
Он был уверен, что расстался с кино навсегда. Но если бы могли представить, что день грядущий нам готовит! По звонку Джуры его приняли хорошо, а сам министр произвел впечатление вполне домашнего человека, только без домашних тапочек. "Джура Рахимович сказал, что Вам там не подошел моральный климат? Да... Кино - большие деньги. Сколько Вы там получали? Ну, у нас чуть меньше ставка, но я смогу из своего фонда компенсировать Вам разницу".
Он ушел с киностудии тихо, незаметно. Поразительно - ему не позвонил ни один из бывших сподвижников по созданию новой реальности. Из всех искусств самым паскудным является кино? - Роберт спокойно и на разные лады переиначивал классика, называл науку для всех марксизмом -онанизмом и в подпитии все допытывался у Сергея: "Нет, старик, вот так, честно, как на духу ответь мне: если бы Ленин остался жив, ему разрешили бы что-нибудь новое написать после двадцать второго года, или заставили бы цитировать самого себя до двадцать второго? Ты же понимаешь, что ни одной, с точки зрения философии, мысли высказано не было. Ну, не политических. Именно философских". Ответить Роберту было нечего. Сергей знал, что мировая философская мысль остановилась и замерла в своих высших проявлениях в двадцать втором году. И никаких тебе Ортегов с Гасетами, Сантаян, Маритенов или там этих Моррисов. И Маркузе нет. Нет никого, кто не нужен кремлевским начальникам. А то еще будут думать не в ту сторону, как ляпнул их преподаватель по этой самой марксистско-ленинской философии на вопрос одного из студентов, как смогли разные ученые прийти к одинаковым выводам, руководствуясь какими-то своими убеждениями, перепуганный Шарапов рявкнул: "Я запрещаю вам думать в эту сторону!". И понес нечто несуразное, что, мол, одинаково ошибочный идеалистический подход дал им - таким разным ученым и в разных странах - такой вот одинаковый результат. Надо было молча согласиться, а то двери в университет перестанут открываться в обе стороны. Что он там еще говорил о кино? - Из всех искусств самым жестоким является кино. Вот она, бессмертная классика! Неужели Джура уже все постиг и знает, что суть успеха - не в знании назубок измах? Он словно неведомое существо несколько раз сделал стремительные вояжи по треугольнику: ЦК - киностудия министерство. Потом вспыхнули темные точки, разгорелись, как-то странно подражали уплыли куда-то в бок, освещая звенящую тьму, и он понял - это бесконечность. И можно постичь ее сейчас. Он понял, что падает вниз по темному звенящему пространству с невероятной скоростью - гораздо выше скорости мысли, и на выходе из черного тумана почувствовал, как переворачивается в пространстве, меняет курс полета. "Попробуем вот так" сказал голос, который он не услышал, а почувствовал как сзади его твердо подтолкнули в немереное пространство, и вот он уже проткнул изгибающееся пространство и выскочил из пределов привычной галактики и четко иные миры. Он не собирался возвращаться назад, даже не думал - возможно ли это в принципе, но уже в следующий миг ощутил, что он - на исходной позиции, что, возможно (да что там возможно - наверняка! - ведь ему хотелось этого!) он еще раз провалится сквозь пространство, на стыке искривления времени и материи. Или только пространства? - Не важно - важен вылет к свету. Или - к пониманию? Вот какое кино... Все - из точки, Мгновенно. И может быть, опять в точку? Тоже - мгновенно? Вот как в мысли? Сколько чего в секунду? Нет, лучше машины - туда-сюда и вон куда. Машина так не сможет. Если гора даже странная и с трубопроводом по ней. Ха-ха! - Никогда не замечал. Или это Тавиль - Дара - стоит высокая гора на берегу Сурхоба. Вот такое кино: он сам попросился у шефа поехать с бригадой проверки в это заведение для душевнобольных: интересно же, какие они в самом деле, если исключить анекдоты. Он видел иногда людей, которых либо начинало вести, либо с пунктиком. Он бы никому не сказал, что пунктик был и у него. Но как узнать это стабильно или впереди - дурдом?
Под крылом самолета не море тайги, а цепи гор. Лучше гор могут быть только горы. Никто не нарисует такой панорамы вздыбившейся земли. Глаз не оторвать. Тогда у него и родилась мысль пройтись по горам. Он знает куда вверх на Гиссарский хребет, до Магианской экспедиции. Оттуда - на магине в Пенджикент и через Самарканд назад самолетом. В отпуске. А пока на мосту через Сурхоб охрана проверяла их документы - все впервые прибыли сюда - от главного специалиста минздрава до него, Сергея. Их всего - четверо. Сторож позвонил, вызвал машину. "Да, не очень близко. Нет, отсюда сбежать невозможно. Через эту реку невозможно перебраться. Никакой сумашедший не полезет. Бегут? - Конечно. Но бегут в другую сторону - знают, что по прямой дороге - пост. Но не знают, что горная дорога вокруг приводит только сюда. Сделают круг вокруг вот этой громады - это, километров десять, и появляются здесь. А мы уже их ждем... Они все никак понять не могут, как это они, миновав охрану ТАМ натыкаются на нас". Сергей думал о несчастных, на всю жизнь упрятанных за эту огромную гору и понимал, что его отлучение от кино ну детская шалость. Посмотрим.
За горой не слышно было шума ревущей реки. Было чисто и тихо. Здесь даже летом выпадали дожди и все деревья - орехи, алча, тутовник, яблоки были свежезелеными, листья не были изъедены разными вредителями. Полезный воздух. Но помогает ли он этим несчастным? Или - место выбрано для спокойствия персоналу? Здесь у всех врачей было жилье, правда, не на территории этого спецучреждения, а на выходные почти все уезжали в город. Всего ничего двести км. Уезжали в пятницу пораньше и ночью были уже дома. Вечером в воскресенье возвращались. Свой автобус. Но зимой, как он узнал, иногда не выезжают месяцами - дорога опасна и надо ехать целый день. Но это не главное, что рассказала ему Александра Ильинична. Он принял ее за сотрудницу дома. Она сидела на лавочке и читала книжку. На ней была не полосатая одежда и даже не очень старая. Он поздоровался с ней, она ответила и спросила: вас давно привезли? Он ответил, что приехал с группой из минздрава. Женщина улыбнулась: "Очередная проверка... Но у нас здесь нормально. Впрочем, вы в этом сами убедитесь". Сергей ответил: "Да, внешне у вас здесь - почти идиллия. Жаль, больные не могут рассказать о том, каково им здесь". "Почему же? Я вот больная и живу здесь уже целых шесть лет. Так что могу судить, что и как". Сергей не поверил ее словам: перед ним была интеллигентная и вполне трезво рассуждающая женщина. Она уловила его смущение и сказала: "Да вы не удивляйтесь: у меня очень странная форма помешательства: иногда я чувствую себя совсем нормальной. А потом - вдруг накатывает. Не бойтесь - это происходит не сразу. Я даже успеваю дойти до корпуса сама и попросить сделать мне успокаивающий укол". Сергей попросил разрешения присесть. Может, он узнает что-то и о себе? Ему же сказала врач на скорой: "У вас - синдром". Добавила какое-то слово, но он забыл. А вернуться потом в поликлинику было не удобно. Но его ведь не положили в клинику к Гулямову. Значит, не так страшно. А может, врач в поликлинике ошибается? Сам он лучше других знает свое состояние. Почему он иногда впадал в угрюмую задумчивость? Почему боялся заснуть без света? Почему так назойливы стали мысли об отце, когда тот умер? Ему все казалось, что отец вот-вот выйдет из другой комнаты, или окажется на кухне, или в ванной. Он прислушивался к шорохам в ночной квартире - днем этих проявлений не было пытался себя успокоить, что совсем рядом, за тонкой бетонной перегородкой пытался себя успокоить, что совсем рядом, за тонкой бетонной перегородкой находятся люди, и, странно, когда он слышал их голоса, этого непонятного страха не было. Даже когда он лежал в постели и пока за стеной скрипела кровать и неявственно были слышны любовные вздохи, он чувствовал себя нормально, даже улыбался и все хотел подсказать этим чудакам, чтобы поставили свою кровать любви к стене, которая не разделяет их с соседями. Ему даже казалось, что он - уснет - настолько был спокоен. Но тишина и темнота словно пропитывали тревогой, сон, если даже хотелось спать, улетучивался, появлялась тревожная бодрость, и, стыдно сказать, - он не выключал ночника - темнота чувство тревоги переводила в страх. Повертевшись, поприслушивавшись - иногда в доме вдруг издаст звук сервант или шифоньер. Умом он понимал, что при таких перепадах температуры ничего странного в этом нет, но иногда подходил, открывал шифоньер и потом долго ругал себя: идиот! кретин! - ясно же, если бы в шифоньере кто-то прятался, то ясно - мокрушник, и даже ему вот переть в наглую на шифоньер, в котором этот мокрушник сидит нелепо: не успеешь открыть дверцы, как он воткнет в тебя нож. А еще хуже, если у него - пистолет. Бах! - и - крышка. Его он открывал шифоньер раз за разом, и потом, когда пошли волной эти публикации и показы по телеку про барабашек, он думал, не барабашка ли у него завелась. Днем эти ночные нелепости угнетали его - он понимал; что у него не все нормально с психикой, и сейчас рассказ незнакомки про то, как на нее накатывает, его встревожил, так как у него самого более менее спокойные периоды чередовались с чередой тревожных. Он засыпал к утру и то при помощи элениума, и нередко, когда усталость уже изматывала его, он звонил какой-нибудь безотказной подруге предупреждал, что на ночь, и, отдав ей что положено, спал часов шесть-семь. Иногда девки улавливали, что с ним - что-то не так. Некоторые относили это на свой счет, некоторые - на его усталость и начинали нежить, массировать плечи, нежно мыть в ванной ну и так далее - по полной программе. Он пробовал состояние тревоги погасить бутылкой вина. Но сухого приходилось выпивать бутылки три - на это уходило время, так что водка была лучше. Стакан на грудь - и он вырубался. Только вот тяжело просыпался на внеурочный звонок и утром было заметно. А однажды он сквозь пьяный сон услышал страшный грохот в квартире. У него мурашки пошли по телу, когда он увидел на полу большую железную чашку. Но вдруг в вентиляционный люк услыхал - в ночной тиши очень четко - голос соседа: Люся! Посмотри! - Наш Пуфик кость принес! Вот ворюга! И Сергей сразу успокоился: он жарил себе вечером мясо, и кость, с кусочками мяса, положил в чашку, чтобы утром отдать дворовому псу Женьке. Значит, Пуфик, который иногда и днем забирался к нему в лоджию по винограднику, нанес визит вежливости, и, чтобы не беспокоить хозяина, сам себя угостил. Хорошо, что не спали его хозяева - неожиданно успокоили. Теперь он хотел узнать у Александры Ильиничны что-нибудь важное о своей болезни, - а что это болезнь, он не сомневался ни на минуту. И не ждет ли его этот дурдом. Он принял ее дружелюбное предположение присесть рядом и пообщаться: "У меня здесь есть друзья и среди врачей, и среди другого персонала. Но знаете... Вся моя дружба с ними - словно с видимым концом: они все знают, что мое заболевание - неизлечимо. И знаете, Сергей Егорович. Самое страшное - год от года время между приступами становится все короче, приступы - сильнее. Сейчас я часто не могу даже вспомнить, что делала и говорила во время приступа. Я с вами так откровенна не по причине болезни. То есть не из-за слабоумия. Просто устанавливать короткие контакты, когда возможно откровение - нет времени. Вы завтра уедете? Не так ли? А общение здесь - ограничено". Сергей понял, что его собеседница - человек образованный. Он хотел спросить ее о прежней работе, но не стал этого делать: вдруг заболевание связано с конфликтом или драмой той работы и он усугубит положение своей собеседницы. Но сам он ничего скрывать не стал. "Это хорошо, что вы занимаетесь творческой работой. Здесь, между прочим, есть один кинорежиссер. Я знаю от врачей - судьба занесла его сюда случайно. Вы даже пред ставить не можете он сидел в тюрьме, правда, недолго, и оттуда попал сюда. Он - не местный. Может, вам скажет, откуда он. Да, русский. Я вас познакомлю. Он - не буйный. И много чего рассказывает просто любопытного. Познакомить?". Сергею было интересно. Кто он? Чарли Чаплин, Эйзенштейн или более новая звезда Бергман. Или Феллини. Японцем он вряд ли может быть, скажем, Куросавой. Он сказал Александре Ильиничне, что познакомится с удовольствием. Договорились, что вечером - когда у больных будет вечерняя прогулка. Александра Ильинична мягко и с юмором вводила его в мир этой лечебницы. "Вы, наверное, наслышались анекдотов о врачах, которые сами - ку-ку? Не верьте. Очень много неординарных и тонких людей. Они пытаются постичь тайны этой болезни. У меня самой, например, впечатление, что где-то в голове обмотка на нервных проводах подтачивается. И когда они "коротят", я - больной человек. И, как я думаю, обмотка приходит во все большую негодность, а потому и приступы чаще и сильнее. А сопреет совсем - мне - конец: все функции - дыхания, ритма сердца и так далее перепутаются и стоп машина". Сергея удивила такая диагностика. Он сказал: "Может, дело не в обмотке? А просто перевозбуждаются какие-то центры? И тогда - все не так мрачно: могут в любой момент появиться лекарства,