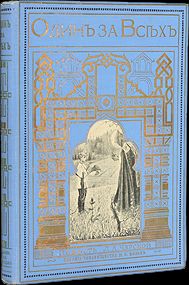Лидия Чарская - Двое и один
Три дня находилась она в неведении, пока не пришло известие из штаба, кто из троих Кирьяновых пал с честью на поле брани.
Оказалось самое жуткое, самое безысходное для материнского сердца: погиб Андрюша, её сын, её первенец, её любимец. И молодой жизнерадостный Миша тоже… Жених бедной Эли. Двое погибших. Двое безвозвратно утерянных навсегда.
Мать вылила последние слезы. Страдала за себя, страдала за Элю. Её молодое горе потрясало немногим менее своего. Кудрявая головка горбатой красавицы то затихала неподвижно на материнской груди, то начинала биться о стены и двери и извергать вопли отчаяния, муки, почти животного страдания. И тогда как то сразу замирало собственное горе. И выдвигалось это молодое, животрепещущее, жуткое в своем аффекте. Мертвый Андрей отступал на минуту и давал место другому погибшему. Пока не утихали девичьи рыдания, пока не замирала обессиленная голова девушки снова на её старой груди.
В день приезда раненого Всеволода решили сопровождать на вокзал Сашу. Роды могли наступить каждую минуту, нельзя было отпустить даже и в недолгий путь одну. Приехали в город задолго до прихода поезда. Сгруппировались в уголке зала первого класса. Все трое в крепе, все трое в черном, все трое с побледневшими и осунувшимися лицами. У одной Саши глаза горели еще огнем ожидания. Были некоторые надежды в груди и смутная блеклая радость встречи. Вернее отголосок радости. Смерть брата, горе сестры… Общее горе… И впереди еще рана мужа…Какая рана…Опасная? Жуткая? Грозящая сделать его калекой? Ах, она не знает ничего, ничего… В телеграмме стояло так глухо, так смутно: «Ранен. Возвращаюсь. Целую». И все.
А как ранен? Ведь от ран умирают люди. О, это неведение.
И еще страшнее делается при взгляде на сестру… Глаза Эли полны укора. Она ясно читает в них недоброжелательство, упрек. «Их было трое, говорят эти черные, недобрые, сухо блестящие глаза, — их было трое, а погибло два и спасен судьбой один. Но почему же ты такая счастливица, почему ты, а не я и не мама»?
Поезд подходит к платформе медленно и тягуче, как подходят обыкновенно все пассажирские поезда. Но уже задолго до приближения его три женщины видят серую солдатского сукна шинель и бледное, исхудавшее до неузнаваемости лицо Всеволода, вышедшего на площадку вагона. Вот останавливается подползший вагон, и с тихим криком: «Сева! Милый!» — Саша бросается вперед.
Старуха-мать смотрит тоже как и Эля горящими, завистливыми глазами. Где-то в мозгу копошится смутная темная мысль:
— Не он… Не мой Андрюша… Того убили, остался в живых другой.
И Эля вся вытянувшаяся, с заалевшими щеками и мрачным взглядом шепчет, глядя на зятя и сестру:
— Нет Миши… Нет Миши… Нет Миши…
Но Александра не видит и не слышит ни чего… Она вся полна собственной радостью своим счастьем. Она видит одно только дорогое ей лицо… Одни только выстраданные глаза, улыбающиеся ей нежно и скорбно…
Но почему так скорбно? Почему? Или он не рад видеть ее? Или её обезображенная беременностью фигура отталкивает его? Или он страдает от раны? Бедный, милый, бедный!
Любящим ласковым взглядом окидывает она мужа. И тут только странное изменение в его фигуре бросается ей в глаза. В то время как левая его рука еще издали протягивается к ней навстречу, правая остается без движения… Вернее, она, Саша, и не видит даже этой правой руки. Как то пусто и беспомощно болтается длинный правый рукав походной солдатской шинели.
Бледная, с перекосившимся лицом, Саша делает еще шаг к мужу. И в один миг, ярко и остро, ничем неопровержимая истина пронизывает её мозг: «Ранен серьезно… Рука ампутирована… Калека на всю жизнь…»
И тотчас же меркнет все в хаосе какого-то темного, мертвенного тумана отчаяния…
IV
Старые ветлы вздрагивают над прудом… И потрескивает первым весенним треском февральский лед… Все глубже, все синее делается небо… Чуть внятно, тонко и пряно доносится откуда то издалека свежая струя ранней весны…
У Саши родился мертвый ребенок. Всеволод медленно и долго поправлялся посте ампутации руки. Исчезла бодрость из его сильной, гордой души… Страдал от невозможности вернуться снова в строй, отомстить за тех двоих убитых, и не за них только, за всех павших, за всех братьев своих…
А мать тихо-молчаливо несла свое горе. Об Андрее старались не говорить в доме. И сама она обходила этот скорбный вопрос. Схоронила его в тайниках души, в глубине материнского сердца. Помогала дочери и зятю. Ухаживала за ними, самоотверженно, по-старчески, кротко и смиренно.
И Эля присмирела, притихла. Жило еще глубокое больное горе в молодой душе… Но то было горе красивое, невыплаканное, незабываемое до могилы, переходящее в вечную поэзию загробной любви. А здесь на глазах ярко и наглядно горело другое…
Полный сил, жизни, мужества зять-калека. Обездоленный, страдающий своим бессилием он был всегда на глазах. И сестра с разбитыми иллюзиями, с разрушенными планами на кипучую деятельность там, на пользу родины. Сестра-сиделка безрукого калеки мужа. И глядя на них обоих, затихала острая мучительная тоска Эли, и темная зависть к уцелевшему сменялась глубоким сочувствием и скорбью.