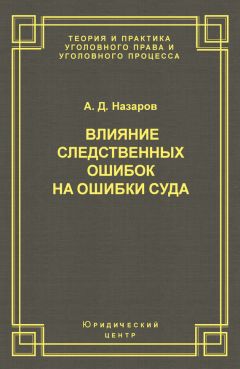Андрей Назаров - Песочный дом
- Летчик.
- Это не просто летчик. Это знаменитый Сидрови, - объяснил любознательный Сопелка.
- А я не знал.
- Дуракам везет, - сказал завистливый Сопелка.
Авдейка повернулся дать ему по носу, но Сопелок было много, и определить, кто сказал про дурака, не удалось. Тогда Авдейка простил и пошел за Глашиной лопатой, возле которой пританцовывал Ибрагим, затаптывая остатки костра. Выпрыгнув из-за парапета, Авдейка схватил лопату и опрометью помчался домой.
- Держи, мальчик! - сипло закричал Ибрагим, продолжая топтать костер.
- Он просто так кричит, не бойся, - сказал Болонка, высовываясь из-за спины Данаурова, где он прятался от позора недоеденных червяков. - Ты скажи лучше, была бы лягушка - съел?
Поколебавшись, Авдейка осторожно спросил:
- А что, есть лягушка?
- Нет, лягушки нету. - И Болонка облегченно вздохнул.
# # #
После червяков Болонка так привязался к Авдейке, что позвал его ждать папу. Отец у него был жив, он привез их с мамой из Сибири и сам был в Москве, но на такой важной работе, что на фронт его не брали и домой он приходил всего один раз. И Болонка придумал такую игру - ждать папу.
Игра начиналась с того, что Болонка скучал по папе особенно сильно. Тогда он прислушивался к себе и намечал день и час, когда папа придет. С утра в такой день Болонка особенно тщательно мылся, выравнивал едва заметную на выцветшем одеяле белую полоску и вытирал пыль в комнате. Когда убирать становилось нечего, он мочил под краном расческу и скреб лохматую голову. Часа за два до назначенного срока Болонка начинал прикидывать, на чем ему лучше сидеть, когда папа войдет, и всегда выбирал стул с высокой и прямой спинкой, обитый потертой кожей, поскольку другого не было. За час до назначенного срока Болонка садился перед дверью, час спустя плакал, два часа спустя - спал. После этого Болонка надолго переставал скучать по папе и жил очень весело.
Авдейка надел матросочку и пошел к Болонке, жившему в маленькой двухкомнатной квартире на первом этаже. Квартира пахла погребом и была завалена мешками и ящиками, принадлежащими толстой соседке под названием Оккупантка. Раньше Оккупантов жила в деревне и приезжала торговать на рынок, а потом заплатила домоуправу Пиводелову, заняла комнату в Болонкиной квартире и все равно торговала на рынке тем, что привозила ей из деревни сестра.
Прежде соседкой Болонки была очень хорошая тетя Нина, но она ушла добровольцем на фронт. Оккупантка заняла ее комнату и говорила, что тетя Нина потому ушла добровольцем, что на пятнадцать минут опоздала на работу и не хотела сидеть за это в тюрьме. Оккупантка не любила Болонку и его маму и хотела поселить в их комнате свою толстую сестру.
Когда, потирая колено, отбитое об ящик Оккупантки, Авдейка вошел к Болонке, тот уже сидел на стуле в новой матросочке, подозрительно похожей на Авдейкину. Он усадил Авдейку позади себя на колченогую табуретку и наказал молчать. Авдейка посидел немного, а потом спросил, что же все-таки делать.
- Ничего не делать, - объяснил Болонка. - Ждать. Ну и думать, как будто папа входит и радуется, что ты его ждешь. А когда стрелка круг сделает и час пройдет, то он уже не придет. Тогда можно плакать.
Тут за дверью раздался грубый голос, и по коридору потащили что-то тяжелое.
- Это не папа, - сказал Болонка. - Это Оккупантка Тупицко-Чувило муку на рынок повезла. Она говорит, что папа нас бросил. Но ты ее не слушай.
- Я ее не слушаю, - отвечал Авдейка, - я жду.
Он сидел, скучал, а потом подумал о своем папе - что не помнит его и никогда не дождется - и заплакал. Если раньше то, что папу убили на фронте, очень нравилось Авдейке и он с гордостью говорил об этом каждому, чувствуя в его гибели незримую опору, то сейчас он ощутил какой-то провал в сердце. Показалось, будто он стоит на краю парапета во дворе на одной ножке, нащупывая второй пустоту. Теперь он прогонял от себя мысли об отце, отворачивался от неожиданной и пугающей пустоты в сердце - и плакал.
- Рано, еще рано плакать! - закричал Болонка в отчаянье от того, что нарушены правила. - Смотри, еще полкруга до часа осталось.
Но Авдейка не унимался. Тогда Болонка перевел на полкруга вперед стрелку в часах теремком, из которых вывалилось тело кукушки с открытым ртом, и заплакал по правилам. Поплакав, Болонка заметил, что Авдейка не унимается, и недоуменно спросил:
- Ты чего?
- Я... я... - силился произнести Авдейка, - так... радовался, что папа герой. Летчик Сидрови сказал, что раз погиб - то герой. А теперь... Он ведь не придет никогда. И
я... его... не помню... совсем...
- Да не плачь ты, - с жаром утешал Болонка. - Это хорошо, что не помнишь. Помнить хуже. Так тетя Нина говорила, а у нее кого только не убили. И друзья мы теперь с тобой на всю жизнь. И тайна у нас есть.
- Какая? - слабо поинтересовался Авдейка.
- Страшная! Ну, что папу ждали. Ты ведь никому не скажешь?
- Не скажу.
- Тогда режь палец! - мрачно приказал Болонка, доставая сверкающий фруктовый нож с костяной ручкой.
- Красивый, - заметил Авдейка, примеряясь к пальцу.
- У нас таких полно, - небрежно бросил Болонка. - Режь!
Авдейка махом надрезал палец и передал нож Болонке, который принялся возить им по своему пальцу.
- Лучше сразу, - посоветовал Авдейка.
Болонка зажмурился и резанул. Они соединили пораненные пальцы и смотрели, как их кровь, смешиваясь, капает на пол и исчезает между паркетинами.
- Как будто чужая, - сказал Болонка. - Не больно совсем.
- Какие мы внутри красивые - как знамя, - сказал Авдейка.
- А еще придешь в папу играть?
Но игра в ожидание Болонкиного папы показалась Авдейке не очень веселой, и больше он в нее не играл. Теперь он стал придумывать всякие истории про своего папу, которого сам Сталин награждал орденами. Папа один убивал сотни фашистов и очень любил Авдейку. Историй сочинялось много, и были они как красивые стеклышки, которыми он забрасывал сосущую пустоту в сердце.
Это была Авдейкина тайна, секрет, драгоценный клад - как тот, зарытый за свалкой, где под стеклом на золотце от конфетки, которую кто-то съел до войны, хранились пестрые камешки со дна моря, прекрасная костяная пуговица и честно разломанный пополам перламутровый веер.
Все свободное время они с Болонкой толкались возле свалки и следили, чтобы никто не раскопал их клад. Свалка была грудой довоенного хлама, издававшего сладковатый запах гниения. В ней угадывались лошадки и ослики, выломанные из карусели, которые разбухли от сырости и приобрели пугающий телесный цвет. Еще больше пугали Авдейку черные прутья арматуры, торчавшие вместо выломанных ног. Но с переднего двора ребят гонял Ибрагим, соблюдавший картофельные интересы, и больше играть было негде. Скоро Авдейка привык к изуродованным лошадкам, но во двор выходил все реже. Беспричинная боль заставляла его оставаться дома. Он вспоминал дядю Петю-солдата, подражая ему, запрокидывал голову, закрывал глаза и тогда догадывался, что хочет увидеть папу. Но в глазах ничего не было, а когда они открывались, то красные круги плавали по просторной комнате. Красные круги расходились по глади тишины, в которой жил Авдейка. Это только так казалось, что он живет с бабусей и мамой, как питье чая у дяди Коли - кипятка с сахаром, но без самого чая. Дядя Коля-электрик чаще других соседей бывал дома и учил Авдейку читать. Чтение состояло из безобразных звуков, имевших форму дяди Колиного рта - припухшего треугольника. Он учил Авдейку читать по "Бородину", которое тот знал наизусть. Распадение монолитного и звучного стиха в пухлогубые треугольники было ужасно, и Авдейка едва не убежал, но потом решил научиться побыстрее. Он легко овладел звуковыми сочетаниями, необозримо расширившими мир, и скоро безостановочно читал дяде Коле, который быстро уставал и просил перерывов, чтобы поговорить о маме-Машеньке. Выспрашивая о ней, он обычно не дожидался ответов, поскольку знал о предмете намного больше Авдейки.
Возвращаясь с завода, мама-Машенька заходила за Авдейкой к дяде Коле. Тот сразу оживал, как надутый мячик, наливал ей чай с сахаром, и она пила его. Машенька пила чай и приходила в себя от отупляющей усталости. Она отшатывалась и бледнела, когда из плюшевых овалов комнаты на нее внезапно надвигалась воображаемая металлическая болванка.
Дядя Коля подливал чай, скакал мячиком, и воображение его страдало от подавленной женственности этого полуживого от усилий существа, самой природой созданного для ласк, но предпочитающего губить себя из нелепой верности мужу, не сумевшему защитить ни себя, ни ее. Он чувствительно страдал от ее преждевременного увядания, находя в этом жизненную нелепость, которую не мог воспринять, - что-то вроде дистрофии работника распределителя. Он наливал чай, и она пила его. Вслушиваясь в ничего не значащие слова мамы-Машеньки, Авдейка невольно улавливал за ними неверный звук треснувшей щепки и, заглушая его, начинал расспрашивать про папу. Машенька благодарила за чай и уводила Авдейку.