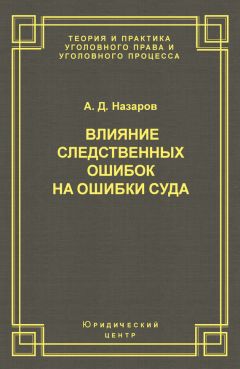Андрей Назаров - Песочный дом
Профессор пригладил пушок на неверно вздернутой голове и шагнул на середину кабинета.
- Позвольте мне откланяться, - сказал он с детской решимостью. - Я надеюсь, что это не более чем срыв. Это временно... для него, не для меня. Я дал толчок его пианизму, более во мне нет нужды. А композиции его... не знаю. Нужен педагог молодой и сочиняющий. Я старомоден, не дам того, чего он ждет. И сам я ждал другого. Впрочем... Музыка - это судьба. Ее не предвидишь. И не избежишь.
- Маэстро! - Мать растерялась и была не в силах вспомнить имя профессора. - Это блажь! Он убегал на фронт, он пропустил смотр - он просто безумен! Но это пройдет. Да скажите же ему... Что же теперь будет?
Профессор не ответил. Лерка почувствовал на своей шее горячее сухое прикосновение - точно зверек пробежал - и остался один. Он захлопнул дверь кабинета перед матерью, проводившей профессора и возвращавшейся в блестках слез, и облегченно вздохнул. Потом сел к роялю и сыграл ту фугу из темперированного клавира Баха, о которой профессор говорил, простирая юную руку: "Сдержаннее, друг мой, это шаг старости. Путь ее отмерен и краток, но она идет, идет..."
# # #
После неудавшегося побега стена, отделявшая Лерку от дворовой жизни, стала неодолимой, словно покрылась толстым слоем льда. Единственной ниточкой к жизни двора оставался Сахан, учившийся с Леркой до того, как в прошлом году остался на второй год. Он один из класса смело шагнул сквозь пустоту, окружившую Лерку после визита в школу отца, Лерка радостно открылся Сахану и покорно отдавал ему свои бутерброды и вещи, но Сахан наглел, становился требователен и почти не скрывал своей неприязни. Иногда Лерка колотил его, но Сахан не обижался и твердо держал роль злой домашней собаки. Неудача с побегом на фронт не оттолкнула его. Он снова пришел к Лерке и говорил про Алешу Исаева - бледный, потный, не скрывавший постыдной радости от того, что их вовремя сняли с поезда, - и Лерка выгнал его. Сахан приходил снова, но Лерка не отпирал ему дверь.
Затаившись в ковровом пространстве, он прислушивался к тому, как выпроваживала мать настырного Сахана, и проигрывал в воображении стремительно оборванный побег - шестьдесят шесть часов свободы - до той его минуты, когда их заперли в станционном здании. Тут возникало в памяти вибрирующее стекло за проржавевшей решеткой и в нем - последний раз в жизни - Алеша. Лерка вскидывался, как от ожога, торопливо обходил комнату, словно за спасение, хватался за бинокль, но в окулярах его стояло неотступное окно, прежде пылавшее солнцем, заострившийся птичий силуэт Алешиной мамы и гаснущий день, не успевавший очнуться из сумерек.
Настала вторая военная зима. В школе было нетопдено и пусто. Занятия, и прежде не увлекавшие Лерку, стали простой формальностью. Он ходил на уроки, получал пятерки и знал, что так будет до аттестата, после чего он поступит в институт, а какой - было ему теперь безразлично.
Кровавый и тяжкий труд, который принесла на землю война, был заказан Лерке отцовской властью. Война кончилась для него, не начавшись, а от мира, по которому грезили все ребята Песочного дома, ждать ему было нечего. Судьба его, предопределенная положением отца, лежала в твердой колее, и любая попытка выйти из нее выглядела нелепой шалостью, за которую расплачиваться будет не он - Алеша.
Замкнутый в своей пустынной свободе, лишенный противодействия действительности, которое одно только и есть жизнь, Лерка отдался во власть неистребимого воображения. Детские мечты о кораблях, океанских просторах
и неведомых островах, вызванные рисунком висевшего над кроватью старинного гобелена, с неожиданной силой ожили в нем. На гобелене была изображена венецианская гавань, наливающаяся трепетом утра. Еще темнели облака, влажные тени лежали в парусах, но пространство за городскими башнями и дремлющими шхунами светилось тоской океанской дали.
Лерка присаживался к роялю и подбирал мелодии к владевшим им образам, причудливо соединяя их и не доигрывая до конца. В том, что он играл, ему чудилась изумрудная тяжесть вздымавшихся волн, нити воды, падавшие с натруженных крыл альбатросов, и воздушный корабль, навсегда потрясший русское воображение. То венецианским матросом в куртке с широким поясом, то корсаром или конкистадором он бороздил океан на торговых шхунах, яхтах, военных бригантинах и знаменитой каравелле "Санта-Мария", корабле Колумба. Ее модель подарок адмирала - стояла в гостиной, окутанная волшебной паутиной стеклянных вантов. Сам адмирал внезапно и окончательно исчез, а каравелла продолжала бесстрашный путь к неведомой земле. Вздувались хрустальные паруса, трепетали ванты, и опускалась в пенистые волны высокая корма каравеллы.
Географическая карта на стене Леркиного кабинета была испещрена маршрутами русских путешественников, испанских конкистадоров и британских торговцев. Он изучал книги с описаниями далеких стран, и на карте, приколотой к письменному столу, прокладывал маршруты своих воображаемых путешествий. С несоразмерной силой поразили его отрывочные сведения о плавающих островах, почерпнутые из путевых заметок и вахтенных журналов. Эти легендарные острова - порождение миражей и обманутых ожиданий - рисовались ему во всем тропическом многообразии истины.
Вынесенный на волне своих мечтаний во двор, где шла игра, Лерка лихо перемахнул ледяную стену, но наткнулся на Кащея - серую глыбу у серой стены и отступил перед угрожающим обликом жизни.
Лерка отступил и окончательно замкнулся в детской фантазии, обретавшей в его досужем воображении мистификаторскую силу. Ею вызывались к жизни случайные мелодии, к которым со жреческим восторгом прислушивалась мать. Лерка спохватывался записать их, но они тут же рассыпались - невоспроизводимые и несбывшиеся. Он забывал о них, и синие стекла воображения приближали плавающие острова - вожделенную, подернутую миражами твердь, где царило вечное лето и звучали мелодии, доносившиеся из растворенных раковин. А за окном, отделенный тяжелыми шторами, лежал утлый, скованный холодом двор.
Но пришло тепло, стаей ворон осели на снег прочерни, на насыпи закопошились люди с лопатами, и с новой силой потянуло Лерку к пробудившейся жизни, с которой связывал его теперь только бинокль.
# # #
...Пушинка, поддерживаемая в полете Леркиным дыханием, вылетела из луча и погасла. Тогда Лерка выдвинул в раздвинутую штору бинокль, привычно подвел окуляры, скользнул взглядом по Сопелкам, растянутым в рыжую гармошку, по болезненно чистому Сахану, отстраняющему лопату, и задержался на Авдейке. Игра теней и бликов сообщала неподвижной фигурке мальчика сдержанный трепет. Приближенный цейсовскими стеклами, он так внятно выражал собою незримую на солнце жизнь огня, что Лерка повел было окулярами в поисках костра, но испугался потерять мальчика. "Откуда здесь такой?" - подумал Лерка.
Облаком скользнуло незапечатленное воспоминание - зима, легкий снег и на ветру, на насыпи, мальчик со штыком, выделенный из дворовых ребят сиянием своего счастья, нездешней свободой взгляда и движения.
Рассматривая Авдейку, Лерка вспоминал своего приятеля по прошлой квартире, художника, мальчика смелого и одаренного, вечно измазанного красками, который радугой осветил Леркин мир и исчез, когда отец его оказался врагом народа. Казалось, он и здесь нашел товарища - так поразил его Авдейка глубокой, невнятной близостью. Но потом Лерка сообразил, что мальчик этот - дитя лет семи, и с сожалением опустил бинокль.
В глубине квартиры послышались шаги. Лерка насторожился, стараясь не пропустить приход отца, имевшего пугающую привычку неожиданно возникать рядом. Отец носил мягкие сапоги, и утопающая в коврах поступь никогда не позволяла определить, где он находится. Но было тихо, и Лерка снова припал к биноклю, увидел костер и жующего мальчишку с глуповатым лицом. Над костром он заметил толстое стекло, не сразу понял, зачем оно, подкрутил окуляры и увидел корежащихся на нем червей, которых и жевал глупый мальчишка. Лерка подернулся от отвращения, но почувствовал, как эта чудовищная забава отозвалась в нем неожиданным, жгучим интересом. Он не знал этого в себе, испугался и отбросил было бинокль, но снова вцепился в нагретые трубки, жадно впитывая противоестественное сочетание - ребенка, выражавшего трепетную душу огня, и червей, корчившихся в нем живыми ошметками.
- Смотри, смотри, я не мешаю, - произнесла мать, бесшумно входя в комнату и стягивая перчатки.
Лерка рассерженно дернул плечом и отошел в угол, залитый черным лаком рояля.
- Я встретила Сахана, - сказала мать, теребя перчатки. - Он спрашивал о тебе. Мне кажется, он благодарен, что я тогда... Ну да, он понимает. Все, кроме тебя, понимают, что я спасла вас. Даже этот ужасный Кащей... Сколько можно казнить меня, Лера? Я ночами не сплю, все вижу эту ужасную яму и всех вас в ней, и тебя, тебя...
Лерка с силой опустил бинокль на вскрикнувшие клавиши и молча вышел из кабинета. Пройдя коридором, он заперся в дальней комнате окнами на шоссе и переждал негодование матери, походя задевшей то, чего сам он не смел касаться. Шоссе, лежавшее под ним, было рассечено стройными рядами лип с занимающейся зеленью. Оно начиналось от Белорусского моста, где когда-то стояла Триумфальная арка, и планировалось под Елисейские поля. "Это Париж! - говорила гостям мать, и Лерка усмехнулся, вспомнив торжественное выражение ее лица. Елисейские поля! А кто знает об этом? Не воспеты, увы, не воспеты. Ждут еще своего Бальзака. Но война..."