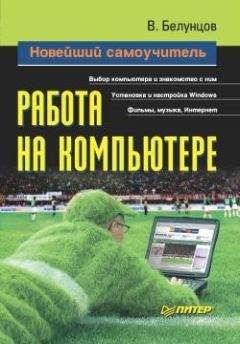Валерий Тарсис - Палата № 7
- Верно! Вы сумасшедший! Вас надо лечить!
- Не передергивайте! Я не буду с вами спорить, - считаю ниже своего достоинства спорить с такими...
Штейн покраснел, потом торопливо усмехнулся, кривя губы, и сказал:
- Мы на больных не обижаемся.
- Я на полицейских тоже не обижаюсь, так же как на холопов.
- А мы кто, по-вашему, полицейские или холопы?
- И те и другие.
- И больше никого нет в советском обществе?
- Советское общество - это мусорная свалка человечества, отравляющая своим зловонием весь цивилизованный мир, я уже долгое время прохожу мимо, зажав нос, но признаться - становится все труднее дышать.
- Как вы можете говорить такие страшные вещи, - у нормального человека язык не повернется...
- Холопы и трусы всегда страшатся правды, особенно когда встречаются с ней лицом к лицу.
- Да, вы безусловно больны... И я предлагаю вам мировую, - давайте полечимся, и все будет в порядке. - Он протянул Алмазову руку.
Алмазов сделал вид, что не замечает его протянутой руки, повернулся к нему спиной и пошел к дверям.
К Коле Силину ходила на свидание очень красивая девушка. Она была так хороша, что Валентин Алмазов, приходивший в неистовый восторг всякий раз, когда Красота милостиво назначала ему короткие свидания, даже не мог описать ее наружности. Он помнил только, что она была как пышная гортензия, слишком возбуждающе созревшая. Он даже позавидовал Коле, так же, как завидовал и радовался, услышав хорошие стихи друга.
Они сидели в углу комнаты, где по воскресеньям происходили свидания. Сегодня был будний день, но некоторым в виде исключения давали внеочередные свидания. Коля низко склонил голову, и девушка тоже наклонилась, так что их лбы почти касались. Иногда она тревожно оглядывалась, - глаза у нее были огромные, как у газели, испуганной кем-то, всех цветов радуги; казалось, она мчится по косогору, ярко освещенному солнцем, так что непрерывно меняется цвет ее глаз от игры солнечных бликов и теней, бегущих за ветром.
А пока Валентин Алмазов думал о счастье Коли Силина и о двойной нелепости его попытки покончить с собой, когда он обладает таким несметным сокровищем, Адель - так звали девушку - тихо шептала ему:
- Не говори мне, что ты меня любишь... не надо... Я все равно отлично знаю, что ты не любишь меня больше... и не потому, что разлюбил или увлекся другой, а потому, что ты разлюбил жизнь - и тебе все на свете безразлично.
Коля рассеянно кивал головой. Он думал о том, что Адель он любит безумно, так же, как жизнь, и никогда не разлюбит ни ту, ни другую. Но Адель его не любит, так же, как не любит Жизнь, бросившая его в застенок. И не потому, что разлюбила, - нельзя разлюбить, когда вообще не обладаешь способностью любить, - и не потому, что полюбила другого, - или вернее, потому, что всегда любила другого, - то-есть себя, только себя. Роман их длился два года. Они познакомились на пляже в Сочи. Коля был ошеломлен ее магической красотой, - Адель была как изваяние эллинского гения. Она хорошо знала силу своего очарования. Она так же хорошо знала силу своего мраморного равнодушия ко всем и ко всему на свете, кроме богатства, нарядов, дорогих ресторанов, машин, веселья и себя самой. Она училась в институте иностранных языков, училась старательно, чтобы наверняка попасть за границу, на работу в посольство, где она надеялась стать звездой экрана, женой миллионера, чтобы жить как в фильме "Сладкая жизнь", который она видела на просмотре в Министерстве культуры.
К Коле Силину Адель отнеслась серьезнее, чем к другим поклонникам. Его отец - генерал. Получает большой оклад. У Коли своя машина. Возможно, что они опять поедут за границу в ближайшее время. Кроме того, Коля - красивый парень, воспитывался в Риме. Она была с ним нежна, даже несколько раз раздевалась в его комнате, но ничего ему не позволяла, только целовать колени, как богине. И вдруг все пошло кувырком.
В один прекрасный день Коля ей сообщил, что ушел из дому, исключен из института, снял где-то комнатушку и работает телефонистом. В его конуру Адель отказалась придти - они встретились в парке.
- Ну, говори. Что ж ты молчишь? - Адель смотрела на него холодными чужими глазами, и все горячие слова, приготовленные для нее, застыли у него в горле.
Он только сказал:
- Да вот так. Не могу же я жить в доме фашиста и есть его хлеб, заработанный трудом шпиков и палачей.
- Ты с ума сошел, Коля, опомнись.
- Не надо стандартных слов, Адель, знаешь, как они мне противны.
- Что же, ты навсегда останешься телефонистом?
- Нет... я убегу за границу.
- И что ты там будешь делать? На какие средства думаешь жить? Там нищие идеалисты никому не нужны.
- Да... ты права. Я об этом не подумал. Но мне не нужно богатство, а только свобода. Я могу там работать переводчиком.
- И мне предложишь рай в шалаше... благодарю покорно. Но для этого рая я - неподходящий персонаж.
Тогда Коля впервые понял, что этот роман - очередная и, может быть, самая жестокая издевка Жизни над ним. Однако это не помешало ему любить ее с той страшной силой отчаяния и безнадежности, которая всегда ведет к трагической развязке. Но яд отравил не только его кровеносные сосуды в ту ночь, когда он решил свести счеты с жизнью, но и сердце.
Раньше Коля думал, что не может жить без Адель. Теперь он этого не думал. Он твердо знал, что вообще жить не может; и Адель тут уже никакой решающей роли не сыграет. И уже спокойно думал, что Адель уйдет от него навсегда.
Он был удивлен, когда она пришла к нему на свидание, так как не знал, что генерал Силин имел с ней продолжительную беседу. И сейчас Адель старательно выполняла поручение генерала.
Когда Адель всячески старалась уговорить его, что он её не любит, Коля помогал ей в этом, хотя ему было мучительно трудно расставаться с ней, примириться с мыслью, что он больше не увидит это ожившее мраморное чудо, не будет хмелеть от её божественной красоты, - но ведь она просто самая большая часть его жизни, которую он все равно удержать не может.
Адель между тем говорила:
- Впрочем, я тебе уже сказала, ты можешь доказать мне, что любишь меня, если образумишься, вернешься домой, извинишься перед директором института. После того, что произошло, легко будет оправдать твое выступление на комсомольском собрании просто болезнью. Ты кончишь институт, и я буду с тобой... навсегда.
Коля долго молчал. И так они молча сидели, наклонившись друг к другу. Потом Коля сказал:
- Смешная ты, Адель. Никто свою любовь не доказывает. Это не теорема. И ты свою теорему доказала именно потому, что никогда меня не любила. Домой я не вернусь. И мне неприятно думать, что ты, моя единственная любовь, явно стала орудием в руках фашистов.
- Как тебе не стыдно!
- Подумай, дорогая, на свободе, кто должен стыдиться, я или ты?
И он так посмотрел на неё, что слезы брызнули у нее из глаз. Она ушла с горьким сознанием большого поражения - первого в жизни после стольких блестящих побед, - и потому особенно горького.
7
ПАДШИЙ АНГЕЛ
Обрести свободу означало для нее
научиться любить свои цепи.
ДЖ. МЕРЕДИТ
В тот день академик Нежевский был дважды поражен, ошеломлен - и оба раза одним и тем же человеком - Зоей Алексеевной Маховой.
Это было тем более неожиданно и знаменательно, что из семидесяти четырех прожитых лет Андрей Ефимович уже лет сорок ничему не удивлялся. На советскую жизнь он смотрел как летописец и поскольку был уверен, что конца этого кошмара ему не дождаться, относился ко всему с тем необычайным равнодушием и терпением, которые являются даром больших людей и следствием непроницаемой тупости человекообразных.
Ученик французской школы психиатров, он считал, что душевнобольных вообще не существует. Хотя бы потому, что никто не может дать определения душевного здоровья. Значит, нет никакой твердой базы для определения и классификации патологических явлений в этой сфере. Что касается советской психиатрии, он считал, что это просто шарлатанство, лженаука, как все советские гуманитарные науки, поскольку ими отрицается существование души, Бога, интуиции, откровения.
- Как же могут лечить душевные болезни люди, которые не знают, что такое душа? Смешно, не правда ли? - говорил он на великолепном французском языке своему другу французскому психиатру Рене Жийяру.
- Друг мой, - своим мягким, немного женственным, певучим голосом, слегка растягивая слова, говорил доктор Жийяр, полный, невысокого роста, стареющий мужчина с большой волнистой седеющей шевелюрой, - вы оговорились, и я осмлеюсь вас поправить. Ведь мы с вами признаем только особые душевные состояния, но не называем их болезнями, и стремимся их модифицировать только одним методом - изменением образа жизни пациента, поскольку все эти отягчающие психику явления тоже, и даже исключительно, вызываются его образом жизни.
- Да, да, конечно, - кивнул своей львиной головой Андрей Ефимович. - Я несколько раз пытался говорить в министерстве о ваших методах лечения, но там и слушать не захотели. Впрочем, ваш метод и неосуществим в советских условиях. Во-первых, у нас миллионы ушибленных людей. Ведь Сталин и его камарилья чуть не всю Россию вогнали в панику своими неслыханными жестокостями и десятилетиями террора. Можно без ошибки поставить диагноз, что вся Россия страдает манией преследования. И вы сами понимаете, что необходимо немалое время для того, чтобы вылечить народ от этой мании. Однако, дорогой коллега, благоприятных симптомов нет, - показателем этого служит молодое поколение, которое держат в таких ежовых рукавицах, что есть многократные случаи мании этой у молодежи. Во-вторых, образ жизни нашего народа таков, что он может только усугублять психологическую депрессию: вечная нужда, невозможность свести концы с концами, лишения, отсутствие уверенности в завтрашнем дне: стоит на шаг отступить от сервилистского статуса, выступить против какого-нибудь даже мелкого сатрапа районного масштаба, и вы можете лишиться всего - работы, квартиры, положения в обществе. А главное - это отсутствие перспективы, надежды на лучшее будущее. Мой сын окончил университет в тридцатых годах. И недавно он рассказал мне, что на выпускном балу секретарь партийного комитета с пафосом воскликнул: "Я завидую вам, что вы будете еще только зрелыми людьми в начале второй половины века, когда наша страна будет богатой, всего будет в изобилии, жизнь будет прекрасна!" Но вот уже двенадцать лет мы прожили во второй половине века. И что же? Изобилие такое, что даже хлеба нельзя достать во многих местах, а крупы, макарон, которые вы так любите, даже в Москве нет. А цены в три-четыре раза выше, чем в те далекие годы. С каждым десятилетием жить становится хуже, тяжелее, безрадостнее, а о духовной пище и говорить не приходится. Одна марксистская жвачка. Ни музыки, ни фильмов, ни замечательных книг Запада. Да что говорить! Вы сами это знаете. А народ хочет жить. Да... В то время как у вас избегают применения лекарственной терапии, в лечебницах запрещается строжайше всему персоналу произносить слово "больной", вы лечите, только изменяя образ жизни пациента: полная свобода времяпрепровождения, передвижения, общения мужчин с женщинами и даже любовь, у нас - тюремный режим в больнице, и мы, врачи, как тюремщики, ходим с ключами вместо стетоскопов, а когда я о заграничном опыте рассказывал, - на меня смотрели как на сочинителя охотничьих рассказов. Руководитель психиатрического отдела министерства доктор Бабаджан сказал мне: - "Да, Запад давно хочет навязать нам эту идеалистическую кухню, но мы не клюнем на эту буржуазную удочку..." Я не стал с ним спорить. В моем возрасте смешно заниматься донкихотством.