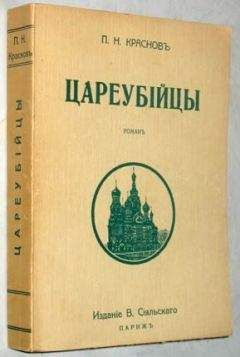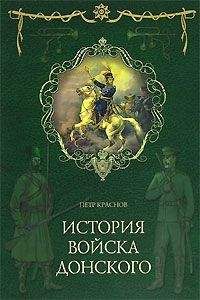Петр Краснов - Largo
Был тихий туманный осенний день — 1-е октября. Обычный Московский аукцион. Было около сотни прекрасных лошадей. Но какие цены!.. Покупали больше коннозаводчики, не стоявшие за деньгами. Рядом с Лимейлем хорошенькая барышня, почти девочка, с красивым видным штатским и с мальчиком-лицеистом, азартно торговала Лазаревскую "Львицу".
Это была самая нарядная, самая резвая лошадь аукциона. Генерал Лимейль сказал про нее:
— С этой лошади статую лепить… Что Венера в мире человеческом — то эта лошадь в лошадином.
— Правда? — обернувшись к Лимейлю воскликнула девушка. — Папа, во что бы то ни стало купи мне ее.
Торговал Львицу и Петрик. Дошел до цифры шестисот — роковой своей цифры, и завял.
Львицу взяла девочка за три тысячи рублей!
"Где же офицеру — такие бешеные деньги!", подумал тогда Петрик и слезы навернулись ему на глаза. И, уже в конце аукциона, вывели Одалиску. Это была нервная лошадь. Она била задом. И когда кричали из круга покупателей — А ну, проведи!
Она не желала идти.
— Торгуйте, поручик, — шепнул Петрику Лимейль, — лошадь великолепная… Нрав тяжелый — да в полку обломаете… Пойдет недорого.
Петрик опять дошел до шестисот и забастовал.
— Шестьсот! — Кто дает больше? — вы? — крикнул аукционист.
— Рубль, крикнули вправо…
— Рубль, отозвались слева.
— Еще рупь…
— Рубль…
— Что же вы, поручик, — толкнул его генерал Лимейль.
— У меня, ваше превосходительство, нет больше денег и негде их достать.
— Торгуйте, торгуйте, я вам дам, грех упустить такую лошадь барышнику. Тогда и за три тысячи ее не выкупите, — и сам Лимейль крикнул: — шестьсот десять!
— Кто дает?
— Вот поручик!
И опять побежало: — рубль… рубль… рубль…
За шестьсот семьдесят рублей досталась Петрику Одалиска. Шестьсот заплатил он, и семьдесят дал ему генерал Лимейль, в первый раз увидавший офицера на аукционе, но чуткой душой понявший его.
— Отдадите мне из первого вашего приза!.. Императорского, — сказал Лимейль горячо благодарившему его Петрику.
Ну и намучился с ней в полку Петрик! Два года она не давалась ему — и только в школе, точно что случилось с ней, вдруг вся она переменилась, стала: внимание, усердие — и через год сделалась лучшею лошадью смены и украшением всего курса. Тогда Петрик получил разрешение готовить ее летом на Красносельскую скачку.
Он подходил теперь к ней, стоявшей в сумраке манежа, на фланг смены и его сердце билось радостью свиданья. Она узнала его. Она настремила уши и тихо, стесненная железом во рту, заржала.
— Ишь голос подает… Увидела хозяина, — ласково сказал Лисовский.
— Овес хорошо ела?… — быстро спрашивал вестового Петрик. — Спала хорошо?
А сам глазами охватывал весь стройный корпус своей любимицы.
— Весь выкушала… Играет в станке… балуется…
Офицеры разбирали лошадей. Заведующий сменой, высокий ротмистр Баранов командовал "садись".
И когда мягко опускался в седло Петрик — он ощутил великую радость полной слиянности со своею милою Одалиской.
Последний час, от 4 до 5-ти, когда уже все устали, была езда на казенных. Добрый старый Аметист, из рыжего ставший с годами бурым, равнодушно-покойно встретил Петрика, как опытный егерь мужик встречает барина, приехавшего на охоту.
По всему манежу были наставлены барьеры. Очень высокие. Четырехаршинная канава была раскрыта.
Когда Петрик садился на Аметиста — тот точно сказал: — "ничего!.. поскачем!"
Бражников отговорился головною болью и его вороного Жерминаля увели на конюшню, а он сам со скучающим видом сел в ложе и смотрел, как в мутном свете больших круглых фонарей скакали и прыгали офицеры старшего курса. Кто-то загремел на канаве и его вынесли замертво в маленькую комнатку при манеже и послали за доктором, но он скоро очнулся и пожелал снова сесть на лошадь, чтобы "не потерять сердце".
— Чудаки… варвары, — ворчал Бражников, поеживаясь плечами. — А Ранцев, поди, доволен… Теперь бы в постель перед обедом… Праздничный сон — до обеда…
А в манеже все скакали и рубили глину и хворост, а по другую сторону ложи, в другом манеже, скакали с пиками казачьи офицеры и топот карьера лошадей еще более раздражал Бражникова.
— К чему?.. Ну к чему? — ворчал он про себя. — Теперь, когда аэропланы… Разве нужно все это?
XXIV
Веселый, ярко освещенный, чистенький и в этот час пустой трамвай № 4 "Лафонская площадь — остров Голодай" быстро доставил Петрика на Адмиралтейскую площадь.
Петрик пошел, огибая решетку Александровского сада. Деревья и кусты были голы, но от земли, только что освободившейся от снегa, пахло нежным запахом земли. В светлом небе темным силуэтом рисовались стройные линии Зимнего Дворца. Дворцовый мост горел огнями фонарей. С Невы тянуло свежим холодком.
Нева только третьего дня очистилась от льда, и вчера, по двухвековой традиции, при пушечной пальбе, на темно-синем гребном катере престарелый комендант Петропавловской крепости переправился через нее к Зимнему дворцу и открыл навигацию.
Уже издали Петрик увидал знакомый дом на далеком, противоположном берегу. Он с замиранием сердца смотрел на него. Сейчас почти во всех его окнах был свет и на пятом этаже заветное окно светилось красным пятном. «Нигилисточка» была дома.
За кустами сквера, на набережной, скрипела пароходная пристань. Толпа стремилась на пароход. Внизу над темными, казавшимися совсем черными волнами качались красный и желтый огни фонарей. Под мостом, у деревянного плота, к которому широкая спускалась лестница, прыгали желтые огоньки яличных фонариков и от них по волнам струились блестки отражений.
Петрик спустился к яликам и спрыгнул в плоскодонную ладью.
— К Мытному, — сказал он.
Яличник, не cпешa, снял тяжелый тулуп и расстелил его под себя на носовой банке.
— Одни пойдете, или подождете еще кого пассажиров, — спросил он для порядка, зная, что офицер поедет один.
— Один, — сказал Петрик.
Мужик поплевал на руки и взялся за весла. Ялик запрыгал по волнам. Пристань, огни набережной стали удаляться.
На реке — какая-то молодая радость охватила Петрика. Он забыл усталость рабочего дня, в голове его стало все просто и ясно, и так хорошо было теперь подойти к той тайне, что влекла его с самого их оригинального знакомства, когда он ночью, нахрапом, едва ли не с пьяных глаз ворвался к чужой девушке.
"Нигилисточка" — Агнеса Васильевна Крейгер стала охотно принимать у себя Петрика. Она «просвещала» его. Он смотрел в ее большие, как лампады горящие глаза, слушал ее речи, казавшиеся ему безумными, и ему казалось, что он ходит по самому краю крутого скользкого обрыва, а под ним — бездонная пропасть. Эта пропасть тянула.
То, что он услышал в кабинете Якова Кронидовича от Стасского — было ужасно. Но то говорил выживший из ума, желчный и злобный старик, пускай — первый ум в России — и говорил в кругу своих «благонамеренных» людей. Его слушали и знали, что этот вызов Богу, эта критика правительства, это поношение Русских героев- барская блажь, самодурство барина, богатого человека, взысканного этим самым правительством и им обласканного, — у Агнесы Васильевны — это шло куда-то в народ, которого Петрик не знал, и который — так уверяла «нигилисточка», она отлично изучила и знала.
Петрик пошел на красный огонек, чтобы заглянуть под чужой череп. Он увидал здеcь так много нового, чуждого ему, что растерялся, испугался и, почувствовав, что стоит перед омутом, не мог от него отойти. Омут тянул его.
"Нигилисточка" не то чтобы была красива: разобрать строго — куда же ей до Валентины Петровны!.. Очень худая — от недоеданий ли, от сгорания ли в своей «идее», от усиленных ли занятий, может быть, просто от туберкулеза — она была стройна, высока и изящна. Тело в ней как-то забывалось — была одна душа, — знойная, сгорающая сама и зажигающая других, непокорная и мятущаяся. Одевалась она не без кокетства. Всегда какие-то длинные платья, многими ровными складками ниспадающие к полу, талия где-то под мышками — не то костюм республики, не то древнегреческий хитон, прекрасные, густые, темно-каштановые волосы причесаны просто, сзади завязаны узлом, но на лбу затейливые локоны. Руки с тонкими пальцами без колец. У ней, оказалось, есть и прислуга — Глаша. Не то служанка, не то подруга — как будто ровня Агнесе Васильевне. Глаша подаст самовар и сама сядет к столу, разливает чай и себе нальет. Сидит, слушает и молчит.
Когда звонил Петрик к Агнесе Васильевне — теперь уже с парадного подъезда, он чувствовал, что будет интересно, волнующе, даже страшно, но скучать не придется.
Торопливые шаги, вопрос за дверью, — "кто там"? и — "войдите, Петрик, я вам очень рада".
XXV
В платье цвета розового аметиста, отделанном кружевами цвета сливок, без украшений, без браслетов, брошек и колец, она стояла в прихожей, пока Петрик отстегивал по ее приглашению саблю и вешал пальто.