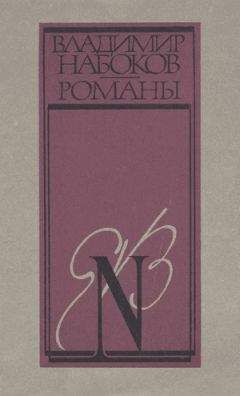Владимир Набоков - Истинная жизнь Севастьяна Найта
Уже в первый сезон их знакомства они часто виделись; в конце осени она поехала в Париж, и я подозреваю, что он к ней туда приезжал не раз. К тому времени он уже кончил первую свою книгу. Она выучилась машинописи и летние вечера 1924 года проводила за тем, что опускала в щель страницу за страницей, и они потом выходили наружу одушевленные черными и лиловыми словами. Я так и вижу, как она постукивает по блестящим клавишам под шум теплого дождика, шелестящего в темных ильмах за растворенным окном, между тем как голос Севастьяна, шагающего взад-вперед по комнате, размеренный и серьезный (он не просто диктовал, но, по словам мисс Пратт, священнодействовал), то приближается, то удаляется. Обыкновенно он бо́льшую часть дня писал, но продвигался так трудно, что к вечеру для переписывания на ремингтоне набиралось не больше двух свежих страниц, да и те приходилось переделывать, ибо Севастьян любил предаваться необузданной правке; а иногда он делал нечто, чего не делал, я думаю, ни один писатель, – переписывал от руки уже отпечатанную страницу своим наклонным, неанглийским почерком и потом заново ее диктовал. Его словоборчество было особенно болезненным по двум причинам. Одна была общей писателям его типа: наведение мостов через пропасть, пролегшую между выражением и мыслью; с ума сводящее чувство, что верные слова, единственные слова, поджидают тебя на противоположной стороне, заволокнутой дымкой, а неодетая еще мысль дрожит и молит об этих словах на этой стороне пропасти. Готовые фразы ему не годились, ибо то, что он хотел сказать, было совершенно исключительного покроя, и к тому же он знал, что настоящая мысль не может существовать без облегающих ее слов, сшитых по мерке. Поэтому (если воспользоваться еще более близким сравнением) мысль только кажется голой, а она просто нуждается в том, чтобы одежды ее сделались видимы, и в то же время слова, прячущиеся вдали, – не пустые скорлупки, какими кажутся, а только того и ждут, что уже таящаяся в них мысль воспламенит и приведет их в действие. Иногда он бывал как дитя, которому дали моток перепутанных проводов и велели произвести чудо света. И он его производил и порой совершенно не понимал, как ему это удалось, а в другой раз он часами, бывало, возился с проводами, соединяя их самым разумным, казалось, способом, – и ничего не выходило. И Клэр, не сочинившая в своей жизни ни одной строчки прозы или поэзии, так отлично понимала (и это было собственное ее чудо) всякую подробность этой борьбы Севастьяна, что слова, которые она печатала, были для нее не столько проводниками их природного смысла, сколько поворотами, провалами и зигзагами, отмечавшими извилистый путь, которым Севастьян наощупь пробирался по некоему маршруту идеального выражения мысли.
Но дело было не только в этом. Я знаю – знаю так же верно, как и то, что у нас был один отец, – знаю, что русский язык Севастьяна был лучше и натуральнее его английского. Я вполне допускаю, что за пять лет, в продолжение которых он не пользовался русским языком, он мог внушить себе, что позабыл его. Но язык вещь физически живая, и легко от нее не отделаешься. Нужно, кроме того, помнить, что за пять лет до его первой книги, т. е. когда он бежал из России, его английский был так же жидок как и мой. Свой я через несколько лет усовершенствовал искусственно, путем усиленных занятий за границей, он же пытался дать своему английскому естественное развитие в его природной среде. И он действительно развился поразительно, но все равно я считаю, что если бы он начал писать по-русски, то был бы избавлен от этих именно мучений с языком. Скажу еще, что у меня имеется его письмо, написанное незадолго до смерти. И вот русский язык этого короткого письма гораздо чище и богаче его английского любого периода, какой бы выразительной силы он ни достиг в своих книгах.
Знаю я и то, что, печатая на ремингтоне слова, которые он выпутывал из своей рукописи, Клэр иногда переставала стукать и, слегка поморщившись и приподняв за краешек зажатый лист, перечитывала строчку и говорила: «Нет, милый, так по-английски сказать нельзя». Секунду-другую он тупо смотрел на нее, потом снова начинал мерять шагами комнату, неохотно обдумывая ее замечание, а она сидела, тихо сложив руки на коленях и смирно выжидая. «Иначе этого никак не скажешь», – бормотал он наконец. «А если так, например», – говорила она – и предлагала именно тот оборот, который требовался.
– Ну, будь по-твоему, – отвечал он.
– Да я не настаиваю, милый, делай как знаешь. Если ты полагаешь, что грамматическая ошибка тут не помешает…
– Ах, да продолжай же, – восклицал он. – Конечно ты права, продолжай…
К ноябрю 1924 года «Грань призмы» была окончена. Она вышла в марте следующего и не имела никакого успеха. Сколько я мог установить по газетам того времени, ее упомянули всего один раз. Пять с половиной строк в воскресном номере, между другими словами о других книгах: «„Грань призмы“ – по-видимому, первый роман автора, а посему его нельзя судить столь же строго, что… [книгу такого-то, упомянутую раньше]. Забавная его сторона представляется мне невразумительной, невразумительная же забавной, но допускаю, что существует такой род сочинений, коего прелесть мне недоступна. Однако в угоду читателям, которым такие вещицы по нраву, добавлю, что г. Найту столь же присуще пускать в оборот пустые частности, сколь и не отделять запятыми причастных оборотов».
Та весна была, пожалуй, самым счастливым временем жизни Севастьяна. Он разрешился одной книгой и уже чувствовал, как внутри шевелится следующая. Он пользовался отличным здоровьем. У него была чудесная подруга. Его больше не мучили «мелкие заботы, которые прежде порой осаждали с упорством муравьиной массы, расползающейся по испанской заимке»[51]. Клэр рассылала за него письма, проверяла белье, полученное от прачки, следила за тем, чтобы у него не переводились бритвенные лезвия, табак, соленый миндаль, до которого он был большой охотник. Он любил обедать с ней в ресторане, а потом идти смотреть какую-нибудь пьесу. От пьески этой он потом неизменно стонал и корчился, но получал патологическое удовольствие от подробного разбора разной пошлости. От зрелища жадности или целеустремленного злодейства у него раздувались ноздри и скрежетали задние зубы в пароксизме отвращения, когда он набрасывался на какую-нибудь жалкую банальщину. Мисс Пратт вспомнила один случай, когда ее отец, у которого тогда был какой-то коммерческий интерес в одной кинематографической фирме, пригласил Севастьяна и Клэр на частный сеанс великолепной и дорогой фильмы. Главную мужскую роль играл замечательно красивый молодой человек в роскошном тюрбане; сюжет сильный, драматический. И в самый напряженный момент Севастьян, к крайнему изумлению и неудовольствию г. Пратта, начал сотрясаться от смеха, а Клэр, хоть и сама тоже булькала, дергала его за рукав, безпомощно пытаясь его остановить. Им, наверное, было так на редкость хорошо друг с другом. И трудно поверить, что это тепло, эта нежность и красота не сохранились где-нибудь как драгоценность, у какого-нибудь безсмертного свидетеля жизни смертных. Их, должно быть, видели, когда они гуляли в Кью-Гарденс или в Ричмонд-парке (сам я там никогда не бывал, но названия эти ласкают слух), или ели яичницу с ветчиной в каком-нибудь милом трактирчике во время летних выездов за город, или читали на широком диване в кабинете Севастьяна, где весело горел камелек и английское Рождество уже напояло воздух слабыми пряными запахами в смеси с лавандой и кожей. И можно было подслушать, как Севастьян рассказывает ей обо всем том небывалом, что он попытается выразить в своей следующей книге под названием «Успех».
Однажды летом 1926 года, чувствуя себя иссушенным и ошалевшим от единоборства с особенно непокорной главой, он решил ехать за границу, чтобы там с месяц отдохнуть. У Клэр были дела в Лондоне, и она сказала, что приедет к нему недели через две. Когда она наконец приехала на выбранный Севастьяном немецкий морской курорт, ей против ожидания сказали в гостинице, что он отбыл неизвестно куда, но что вернется через день-два. Это озадачило Клэр, хотя, как она потом сказала мисс Пратт, она не очень встревожилась и не расстроилась. Мы можем вообразить, как она, худая и высокая, в голубом макинтоше (было пасмурно и неприветливо) безцельно бродит по молу; песчаный пляж, безлюдный, если не считать нескольких мальчишек, которых не пугает непогода; трехцветные флаги, заунывно хлопающие на еле дышащем ветру, и стального цвета море, прибой, то тут, то там вскипающий гребнями. Дальше по взморью шел буковый лесок, широкий и темный, без подседа – кроме разве вьюнка, кой-где покрывавшего коричневую, волнистую землю; и посреди прямых, гладких стволов стояла странная коричневая тишь: ей казалось, что из ямки, прикрытой мертвыми листьями, вот-вот на нее глянет своими блестящими глазками немецкий гном в красном колпаке. Она легла спать рано, а на другое утро выглянуло солнце[52], и она достала из чемодана свой купальный костюм и провела приятный, хотя и какой-то вялый день, лежа на мягоньком белом песке. На следующий день опять пошел дождь и она осталась у себя в номере до полудня, читала Донна, который потом у нее навсегда соединился с бледно-серым освещением этого сырого, мглистого дня и с плаксивым голосом ребенка, который желал играть не иначе как в коридоре. Потом приехал Севастьян.