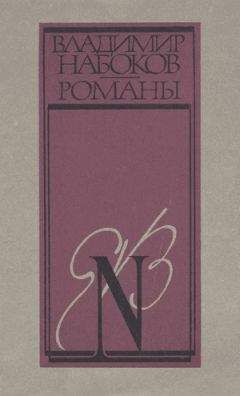Владимир Набоков - Истинная жизнь Севастьяна Найта
– А я как раз собирался тебе телефонировать, – сказал Севастьян, боюсь, не слишком искренне. – Я здесь, видишь ли, всего на день, а завтра назад в Лондон. Что тебе заказать?
Они пили кофе. Клэр Бишоп, часто моргая, порылась у себя в ридикюле, нашла платок и слегка прижала его к одной розовой ноздре, потом к другой. «Насморк усиливается», – сказала она и защелкнула сумку.
– Отлично, – сказал Севастьян, в ответ на естественный вопрос. – Вот только что кончил роман, и издателю, которому я его послал, он как будто нравится, судя по его обнадеживающему письму. Он даже, кажется, одобряет мое название, «Дрозд зашиб воробья», хотя Клэр оно не нравится.
– По-моему, оно звучит как-то глупо, – сказала Клэр. – А потом, птица вообще не может никого «зашибить».
– Это из известной частушки, – сказал Севастьян, чтобы мне было понятно, о чем речь[47].
– Довольно глупой частушки, – сказала Клэр. – Первое ваше название было куда лучше.
– Не знаю… Призма… Край призмы… – проговорил Севастьян. – Это несовсем то… Жалко, что мой Дрозд не пользуется успехом…
– Название, – сказала Клэр, – должно передавать расцветку книги, а не содержание.
То был первый и последний раз, что Севастьян при мне говорил на литературные темы. В таком безпечном настроении мне тоже редко случалось его видеть. Он выглядел ухоженным и подтянутым. На его белом лице, с тонкими чертами, с легкой подштриховкой на щеках (он принадлежал к числу тех бедолаг, которые вынуждены повторно бриться, перед тем как обедать в обществе других людей), не было и следа того тусклого, нездорового налета, который так часто на нем появлялся. Мне же, напротив, было неловко, слова не шли. Я чувствовал, что был тут лишний.
– А не пойти ли нам в синема, – спросил Севастьян, запуская два пальца в жилетный карман.
– Пойдемте, если хотите, – сказала Клэр.
– Га-сонн, – сказал Севастьян. Я и раньше замечал, что он нарочно говорит по-французски с завзятым британским выговором. Мы долго шарили под столом и под плюшевыми диванчиками в поисках Клариной перчатки. Ее духи были нежно-прохладного оттенка. Наконец я нашел ее – серая замша, белая подкладка, опястья фестонами. Она не спеша натягивала их, пока мы проталкивались сквозь карусельную дверь. Роста скорее высокого, с очень прямой осанкой, хорошие щиколки, туфли на низком каблуке.
– Вот что, – сказал я, – я, пожалуй, не пойду с вами в кинематограф. Ужасно жалко, но у меня дела. Может быть… Когда, собственно, ты уезжаешь?
– Когда? Нынче вечером, – отвечал Севастьян, – но я скоро опять приеду… Какой я болван, что не известил тебя загодя. Во всяком случае мы тебя немного проводим…
– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я Клэр…
– Забыла пакетик! – сказала она, вдруг остановившись.
– Не беда, я принесу, – сказал Севастьян и пошел назад в кафе.
Мы же с ней очень медленно двинулись по широкому троттуару.
Я в смущении повторил свой вопрос.
– Да, довольно хорошо, – сказала она. – У меня здесь живут друзья, я у них гощу до Рождества.
– Севастьян замечательно хорошо выглядит, – сказал я.
– Да, пожалуй, – сказала Клэр, оглянувшись, и потом бросила на меня прищуренный взгляд. – Когда мы с ним познакомились, он выглядел человеком конченым.
– Когда это было? – должно быть, спросил я, потому что запомнил ее ответ: «Этой весной в Лондоне, на одной прежалкой вечеринке; а впрочем, на вечеринках он всегда выглядит обреченно».
– Вот ваши бонн-бонн… – раздался позади голос Севастьяна. Я им сказал, что мне нужно на станцию метро Этуаль, и мы стали обходить площадь с левой стороны. Мы начали было переходить авеню Клебер, когда велосипедист чуть не сбил Клэр с ног.
– Вот глупышка-то, – сказал Севастьян, хватая ее за локоть.
– Тут слишком много голубей, – сказала она, когда мы достигли троттуара.
– Они к тому же пахнут, – прибавил Севастьян.
– Чем? У меня заложен нос, – спросила она, втягивая воздух и глядя на плотную толпу жирных птиц, важно ступавших у нас под ногами.
– Ирисом и резиной, – сказал Севастьян.
Застонал грузовик, уворачиваясь от мебельного фургона, и вспугнутые голуби принялись колесить по небу. Потом они расселись по фризу Триумфальной Арки, а когда несколько из них спорхнуло оттуда вниз, то, казалось, кусочки резного карниза оперились и ожили. Годы спустя я нашел этот образ «камня, переплавленного в крылья» у Севастьяна в третьей книге.
Мы пересекли еще несколько улиц и пришли к белой балюстраде подземной станции. Здесь мы простились, в приподнятом тоне… Помню как удалялся плащ Севастьяна и голубовато-серая фигура Клэр. Она взяла его под руку и переменила шаг, подлаживаясь к его непринужденной походке.
От мисс Пратт я теперь узнал немало такого, от чего мне захотелось узнать еще гораздо больше. Она ко мне прибегла с тою целью, чтобы выяснить, остались ли между бумагами Севастьяна какие-нибудь письма от Клэр Бишоп. Она обращала мое особенное внимание на то обстоятельство, что сама Клэр Бишоп ей этого не поручала; что она вообще не была осведомлена о нашей встрече. Она вот уже три или четыре года как замужем и слишком горда, чтобы говорить о прошлом. Мисс Пратт виделась с ней через неделю после того, как известие о смерти Севастьяна было распечатано в газетах, но хотя они и очень старые подруги (иными словами, знали друг о друге больше, чем каждая из них воображала), Клэр по поводу этого события не распространялась. «Надеюсь, он не очень был несчастлив, – сказала она тихо, потом прибавила: – Интересно, сохранил ли он мои письма». Она это так сказала – так сузила глаза – так коротко вздохнула, прежде чем переменить тему разговора, – что ее подруга пришла к заключению, что для нее было бы большим облегчением знать, что письма эти уничтожены. Я спросил мисс Пратт, можно ли мне снестись с Клэр и можно ли уговорить ее рассказать мне что-нибудь о Севастьяне. Мисс Пратт отвечала, что, зная Клэр, она даже не осмелилась бы передать ей мою просьбу. Сказала, что это «безнадежно». Меня мимолетом посетил недостойный соблазн намекнуть, что письма эти у меня имеются и что я передам их Клэр, если она согласится встретиться со мной, – так страстно мне хотелось увидеть ее, увидеть, подглядеть, как по ее лицу пробежит тень имени, которое я произнесу. Но нет – шантажировать прошлое Севастьяна я не мог. Об этом не могло быть и речи.
– Письма сожжены, – сказал я. Потом я продолжал просить, опять и опять повторяя, что спрос не грех, что она могла бы, может быть, уговорить Клэр, передав ей наш разговор и сказав, что мой визит будет очень кратким и совершенно безобидным. «Но что, собственно, вы хотите знать? – спросила мисс Пратт. – Я ведь и сама многое могу вам рассказать». Она долго говорила о Клэр и Севастьяне, и говорила очень хорошо, хотя, как у большинства женщин, у нее была склонность к назидательности задним числом. «Вы хотите сказать, – прервал я ее в одном месте повествования, – что имя этой женщины так и осталось никому не известно?» «Да», – сказала мисс Пратт. «Но тогда как же я ее разыщу?» – воскликнул я. «Никак».
– Когда, вы сказали, это началось? – опять перебил я ее, услышав о его болезни.
– Не знаю наверное, – сказала она. – Когда это при мне случилось, это был уже не первый припадок. Мы вышли из ресторана. Было очень холодно, а он никак не мог найти таксомотора. Был раздражен, рассержен. Он бросился было к одному, затормозившему невдалеке, но вдруг остановился и сказал, что ему нехорошо. Помню, как он достал из коробочки какую-то пилюлю и раскрошил ее в своем белом шолковом кашнэ, при этом он как-то прижимал его к лицу. Я думаю, это было в двадцать седьмом году или в двадцать восьмом.
Я задал еще несколько вопросов. Она на все отвечала с тою же добросовестностью, а потом досказала свою грустную историю.
Когда она ушла, я все записал, – но все это было мертво, мертво… Мне просто непременно нужно было повидаться с Клэр! Одного ее взгляда, слова, самого звука ее голоса было бы довольно, чтобы оживить прошлое, а иначе это совершенно, совершенно невозможно! Отчего это так было, я не понимал, как не мог понять и того, почему в тот незабываемый день за несколько недель перед тем я был так уверен, что если застану умирающего человека в живых и в памяти, то узнаю нечто такое, чего покуда не знает ни один смертный.
И вот как-то утром в понедельник я отправился с визитом.
Горничная ввела меня в маленькую гостиную. Клэр была дома, что мне удалось узнать у этой ражей, грубоватой молодой особы. (Севастьян где-то пишет, что английские романисты никогда не отступают от раз заведенной у них манеры описывать домашнюю прислугу.) А от мисс Пратт я знал, что г. Бишоп служит по будням в городе; странно, что она вышла за однофамильца, причем не из родни какой-нибудь, а по чистому совпадению. Неужели откажет? Все как будто говорило о достатке, впрочем, не более того… Не иначе на втором этаже главная гостиная глаголем, над нею спальни. По всей улице стояли такие же узкие, тесно придвинутые друг к другу дома. Долго же она раздумывает… Может быть, нужно было рискнуть и сначала телефонировать? Успела ли уже мисс Пратт сказать ей о письмах? Вдруг послышались мягкие шаги на лестнице и в комнату быстро вошел крупный мужчина в черном халате с пунцовым подбоем.