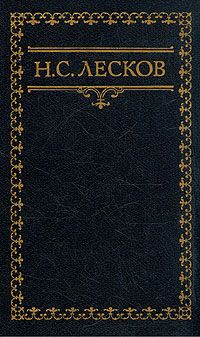Николай Лесков - Печерские антики
Дошло это дело до Евфима и ужасно его тронуло. Он задумался, потом вдруг заплакал и воскликнул:
- Тут надо помочь!
- Как же помочь? надо заплатить деньги.
- Да, конечно, надо заплатить.
- А кто их заплатит?
- А вот попробуем.
Отец Евфим велел "запречь игумена" (так называл он своего карого коня, купленного у какого-то игумена) и поехал к Кобылину с просьбою подержать дело в секрете два-три дня, пока он "попробует".
Председателю такое предложение, разумеется, было во всех отношениях выгодно, и он согласился ожидать, а Евфим пошёл гонять своего "игумена". Объездил он всех друзей и приятелей и у всех, у кого только мог, просил пособить - "спасти семейство". Собрал он немало, помнится, будто тысяч около четырех, что-то дал и Кобылин, но недоставало всё-таки много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется тысяч двенадцать или даже более.
У нас были советы, и решено было "собранное сберечь для семьи", а казначея предоставить его участи. Но предобрейшему Евфиму это не нравилось.
- Что там за участь детям без отца! - проговорил он, и на другой же день взнёс все деньги, сколько их следовало.
Откуда же он их взял?
Он разорил своё собственное семейство: он заложил дом свой и дом тёщи своей, вдовы протоиерея Лободовского, надавал векселей и сколотил сумму, чтобы выручить человека, которого, опять повторяю, он не знал, а узнал только о постигшем его бедствии...
Рассудительным или безрассудным кому покажется этот поступок, но во всяком случае он столь великодушен, что о нём стоит вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дети Ботвиновского призрены, то поневоле приходится повторить с псалмопевцем: "Не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлеба".
Другого такого поступка, совершенного с полнейшею простотою сверх сил и по одному порыву великодушия, я не видал ни от кого, и когда при мне говорят о пресловутой "поповской жадности", я всегда вспоминаю, что самый, до безрассудности, бескорыстный человек, какого я видел, - это был поп.
Поступок Евфима не только не был оценен, но даже был осмеян и послужил поводом к разнообразным клеветам, имевшим дурное влияние на его расположение и положение.
С этих пор он начал снова захудевать, и всё в его делах пошло в расстройство: дом его был продан, долг тёще его тяготил и мучил; он переехал к своей, перенесённой на Новое Строение, Троицкой церкви и вдобавок овдовел, а во вдовстве такой человек, как Евфим, был совершенно невозможен.
Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, весёлого и доброго нрава, терпеливая, прощающая и тоже беззаботная. Лучшей пары о. Евфиму и на заказ нельзя было подобрать, но когда в делах их пошёл упадок и она стала прихварывать, ей стало скучно, что мужа никогда почти не было дома. Она умерла как-то особенно тихо и грустно, и это обстоятельство вызвало в о. Евфиме ещё один необыкновенный порыв в свойственном ему малорассудительном, но весьма оригинальном роде. Мало удосуживаясь видеть жену свою при её жизни, он не мог расстаться с нею с мёртвою, и это побудило его решиться на один крайне рискованный поступок, ещё раз говорящий о его причудливой натуре.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Троицкая церковь, к которой перешёл о. Евфим после смерти своего брата, находилась в Старом Киеве, против здания присутственных мест, где ныне начинается сквер от стороны Софийского собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и вдобавок ветхая, как и церковь Иоанна Златоуста, находившаяся по другую сторону присутственных мест, и с постройкою этих последних её решено было перенести на Новое Строение, где, конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши название прежней. О. Евфим сам распоряжался постройкою церкви и осуществил при этом некоторые свои фантазии. Так, например, в бытность его в Петербурге он мне рассказывал, что устроил где-то в боковой части алтаря маленькую "комару под землёю", - чтобы там летом, в жары, хорошо было от мух отдыхать.
Я не видел этой "коморы" и не знаю, как она была устроена, но знаю несомненно, что она есть и что в ней скрывается теперь ни для кого уже не проницаемая тайна.
- Где схоронена покойная Елена Семёновна? - спросил я о. Евфима, рассказывавшего мне тяжесть своею вдового положения.
- А у меня под церковью, - отвечал он.
Я удивился.
- Как, - говорю, - под церковью? Как же вы это могли выхлопотать? Кто вам разрешил?
- Ну вот, - говорит, - "разрешил"! Что я за дурак, чтобы стал об этом кого-нибудь спрашивать? Разумеется, никто бы мне этого не разрешил. А я так, чтобы она, моя голубонька, со мною не расставалась, - я сам её закопал под полом в коморе и хожу туда и плачу над нею.
Это мне казалось невероятным, и я без стеснения сказал о. Евфиму, что ему не верю, но он забожился и рассказал историю погребения покойницы под церковью в подробностях и с такою обстоятельностью, что основание к недоверию исчезло.
По словам о. Евфима, как только Елена Семёновна скончалась, он и два преданные ему друга (а у него их было много) разобрали в нижней "коморе" пол и сейчас же стали своими руками копать могилу. К отпеванию покойной в церкви - могила была готова. Приготовлялась ли тоже, как следовало, могила на кладбище, - я не спросил. Затем покойную отпели в большом собрании духовенства и, кажется, в предстоянии покойного Филарета Филаретова, который тогда был ещё архимандритом и ректором Киевской академии. По отпевании и запечатлении гроба вынос был отложен до завтра, будто за неготовностью могильного склепа. Затем, когда отпевавшее духовенство удалилось, о. Евфим с преданными ему двумя друзьями (которых он называл) пришли ночью в церковь и похоронили покойницу в могиле, выкопанной в коморе под алтарем. (Один из друзей-гробокопателей был знаменитый в своё время в Киеве уголовный следователь, чиновник особых поручений генерал-губернатора, Андрей Иванович Друкарт, впоследствии вице-губернатор в Седлеце, где и скончался.) Потом пол опять застлали, и след погребения исчез навсегда, "до радостного утра".
Собранные мною по поводу предложенного рассказа сведения подтвердили вполне его достоверность: никто из людей, знавших супругов Ботвиновских, не помнит факта провода на кладбище тела умершей жены о. Евфима, а помнят только факт совершённого над нею торжественного отпевания и предложенной затем изобильной поминальной трапезы. (Прим. автора.)
Покойный епископ Филарет Филаретов, кажется, знал об этом. По крайней мере, когда я его спрашивал, где погребена Елена Семёновна, - он, улыбаясь, махал рукою и отвечал:
- Бог его знает, где он её похоронил.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Как же относились к такому священнику люди?
Моралисты и фарисеи его порицали, но простецы и "мытари" любили "предоброго Евфима" и, как писал мне преосвященный Филарет, "провожали его с большим плачем".
Не каждого так проводят даже и из тех, кои "посягли все книги кожаны" и соблюли все посты и "субботы".
И как было не плакать о таком простяке, который являл собою живое воплощение добра! Конечно, он не то, что пастор Оберлин; но он наш, простой русский поп, человек, может быть, и безалаберный, и грешный, но всепрощающий и бескорыстнейший. А много ли таких добрых людей на свете?
А что думало о нём начальство?
Кажется, неодинаково. О. Евфим служил при трёх митрополитах. Митрополит Исидор Никольский был мало в Киеве и едва ли успел кого узнать. Преемник его Арсений Москвин не благоволил к Ботвиновскому, но покойный добрейший старик Филарет Амфитеатров его очень любил и жалел и на все наветы о Ботвиновском говорил:
- Всё, чай, пустяки... Он добрый.
Раз, однако, и он призывал Евфима по какой-то жалобе или какому-то слуху, о существе коего, впрочем, на митрополичьем разбирательстве ничего обстоятельно не выяснилось.
О разбирательстве этом рассказывали следующее: когда Филарету наговорили что-то особенное об излишней "светскости" Ботвиновского, митрополит произвел такой суд:
- Ты Батвиневской? - спросил он обвиняемого.
- Ботвиновский, - отвечал о. Евфим.
- Что-о-о?
- Я Ботвиновский.
Владыка сердито стукнул по столу ладонью и крикнул:
- Врёшь!.. Батвиневской!
Евфим молчал.
- Что-о-о? - спросил владыка. - Чего молчишь? повинись!
Тот подумал, - в чём ему повиниться? и благопокорно произнес:
- Я Батвиневской.
Митрополит успокоился, с доброго лица его радостно исчезла непривычная тень напускной строгости, и он протянул своим беззвучным баском:
- То-то и есть... Батвиневской!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди к своему месту.
А "прогнав" таким образом "Батвиневского", он говорил наместнику лавры (тогда ещё благочинному) о. Варлааму:
- Добрый мужичонко этот Батвиневской - очень добрый... И повинился... Скверно только, зачем он трубку из длинного чубука палит?
Инок отвечал, что он этого не знает, а добрый владыка разворковался: