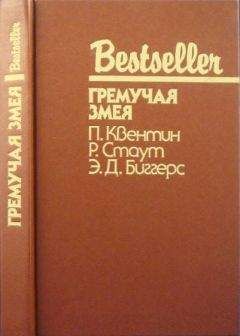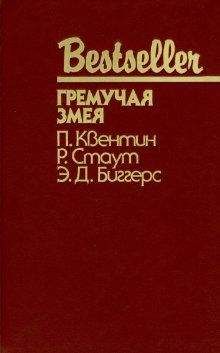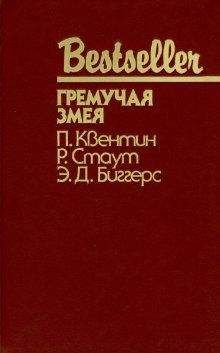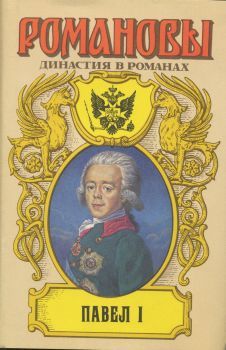Всеволод Крестовский - Деды
Таким образом, в течение пяти суток дороги старый граф и его дочь настолько успели привыкнуть к Черепову и сблизиться с ним, что стали считать его как бы совсем своим домашним человеком, совсем добрым, старым и хорошим знакомым. Граф Илия, привыкший в течение долгих лет своей опалы к жизни «по простоте» и к совершенно простым, непосредственным отношениям к окружающим его людям, от души полюбил молодого гвардейца и просил не забывать его дом и в Петербурге.
– Иди, сударь, ко мне за чем ни понадобится; чем богат, тем и рад для тебя буду. Человек ты, вижу, хороший, и мне по нраву пришел, – сказал он Черепову на последней станции.
Его дочь ничего не промолвила при этом, но зато взглянула на молодого человека таким хорошим взглядом, что нетрудно было угадать и в ее глазах не только желание видеть его почаще, но даже как бы приказание и полную уверенность в том, что он непременно должен и будет бывать у них в доме.
Едва графский поезд приблизился к заставе, как пред ним опустился полосатый шлагбаум, и дормез поневоле должен был остановиться ввиду этого неожиданного препятствия. Здесь к экипажному окошку подошел дежурный унтер-офицер в новой форме по прусскому образцу и осведомился об имени и звании проезжающих.
– Что за остановка? В чем дело? – выпрыгнув из своего возка, крикнул Черепов.
– Позвольте, ваше благородие, чин, имя и фамилию, – доложил ему дежурный. – Надо знать, кто такие проезжающие.
– Да зачем тебе это надо?
– Так приказано. Новый приказ такой вышел, чтобы не пускать ни в Питер, ни из Питера без прописки на заставе. Пожалуйте в караульный дом расписаться в книжке.
Черепов вошел в караулку и отметил в шнуровой тетради, что такого-то числа, в три часа пополудни, в столицу въехал по именному государя императора повелению генерал-майор граф Харитонов-Трофимьев с дочерью и в сопровождении курьера такого-то.
– Подвысь! – крикнул дежурный часовому, стоявшему у заставы.
И полосатый шлагбаум медленно поднялся пред экипажем графа.
Караул тотчас же выбежал вон на платформу и по уставу отдал въезжающему генералу достодолжную воинскую почесть, которую столько уже лет никто нигде не отдавал опальному графу.
IX. Петербург того времени
Все великолепие города Петербурга в 1796 году сосредоточивалось в очень ограниченном и небольшом пространстве между Дворцовой набережной, которая известна была под именем «Сюрлеке» (Sur le quai), Луговой, Миллионными, обеими Морскими и Невским проспектом от Полицейского до Аничкина моста[154]. Центр города составляли окрестности Зимнего дворца, но и в этой лучшей части Петербурга высоких, трех– и четырехэтажных, каменных домов было очень немного. Почти все каменные дома покрывались черепичными кровлями и строились не выше как в два этажа или в один этаж с подвальным жильем, значительно углубленным в землю. Хотя на Морских и Миллионных да на помянутом пространстве Невского проспекта деревянных построек почти уже вовсе не существовало или же таковые являлись как редкое исключение, но зато во всех прочих улицах каменные здания составляли едва лишь десятую часть в общем итоге жилых построек; остальные же дома были все деревянные, редко в два этажа, а все более с мезонинчиком и с палисадником перед окошками. В настоящее время на Невском проспекте сохранились в прежнем своем виде дом Васильчикова, где помещается «Английский магазин», уже около столетия существующий на одном и том же месте, дом Коссиковского (что ныне Елисеев) у Полицейского моста, тогда еще новый и принадлежащий князю Куракину, дом графов Строгановых, известный в те времена под именем палаццо (palazzo), дом католической церкви и Гостиный Двор. Все же прочие дома теперь уже либо сломаны, либо надстроены, так что от прежнего в них и следа не осталось. На Итальянской улице, против Михайловской площади, на правой стороне стояли частью каменные, частью деревянные постройки, а по левой, во всю длину улицы, тянулся каменный забор, который ограждал собой «дворцовый огород», принадлежавший к Летнему саду.
На Литейной и Владимирской, в Конюшенных, в Троицком переулке, в Моховой и окрест лежащих улицах, равно как в Малой и Средней Мещанских, в Подьяческих, на Вознесенском и Екатерингофском проспектах – каменный дом, принадлежавший частному лицу, являлся уже редким исключением. Здесь тротуары заменялись деревянными мостками, и мостовые вполне могли назваться убийственными. Части же города, известные и тогда, как теперь, под названием Московской, Рождественской и Коломны, были сплошь обстроены деревянными домами и вовсе не имели мостовой, а Козье болото в Коломне являлось действительно болотом непроходимым, смрадным и покрытым зеленой тиной. Таких болот в тогдашнем Петербурге было несколько: по Лиговке, в Грязной (ныне Николаевская), на Новых местах и за Каретным рядом, где в наши дни возвышается столько громадных и великолепных зданий. Васильевский остров по набережной Большой Невы сохранился и поныне почти в тогдашнем виде; но во всех остальных частях, за исключением Первой и Кадетской линий, он весь напоминал те окраины своих отдаленных линий за Малым проспектом, какие недавно еще можно было видеть в окрестностях Чекуш и Смоленского кладбища.
Что же касается Песков, Петербургской и Выборгской сторон, то их лучшие улицы напоминали самые плохие уездные городишки, а Ямская представлялась настоящей деревней. Каменных церквей в городе было очень немного, и великолепными могли назваться только Александро-Невская лавра да собор Смольного монастыря. Казанский же собор был еще деревянным низким строением, выкрашенным желтой краской, с высокой деревянной колокольней. Собор Исаакиевский, далеко еще не достроенный, представлял собой какую-то мрачную массу, без всякой архитектуры. Адмиралтейский шпиц[155] со своим корабликом хотя и существовал, но башню его еще не окружали колонны и статуи, да и самое здание Адмиралтейства было низко, не оштукатурено и, не вмещая в себе никакого жилья, служило единственно складочным местом для кораблестроительных материалов. Водяной ров и прямолинейные земляные валы с трех сторон окружали это здание там, где теперь красуется бульвар Адмиралтейский. На месте нынешнего Инженерного замка стоял еще окруженный липами Летнего сада деревянный Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны[156]. Александрийский театр, известный тогда под именем Малого, представлял собой низкое и безобразное здание вроде сарая, без всякой архитектуры, а Большой театр, гораздо ниже нынешнего и не украшенный еще портиком, тоже походил скорее на складочный казенный магазин, чем на храм искусства.
Дворцовую площадь окружали дома частных владельцев, между которыми отличался дом Кушелева, построенный полукругом, на месте нынешнего Главного штаба. Арка тогда еще не существовала. Этот дом являлся для Петербурга своего рода Пале-Роялем[157], где помещались и лучшие лавки (слово «магазин» при Павле было запрещено на вывесках), и лучшие трактиры, и маскарадная зала Фельета[158], и Немецкий театр[159].
В Петербурге было тогда несколько театральных трупп: русская, французская, немецкая, итальянская опера и некоторое время даже польская труппа, существовавшая под управлением антрепренера Кажинского[160]. На русской сцене Малого театра, где давались трагедии, комедии, водевили и оперы, блистали тогда трагик Яковлев и трагическая актриса Екатерина Семенова, комики Бобров, Рыкалов, Воробьев, певцы Самойлов[161] и Гуляев, певица Сандунова. В балете отличались Дюпор, европейская знаменитость того времени, и не менее знаменитый Опост, балетмейстер Дидло и танцовщицы: Колосова, Данилова, Иконина. В итальянской опере приводила в восторг меломанов примадонна Маджолетти, а теноры Пасква и Ронкони, буффо Ненчини и Замбони почитались первыми в Европе. Французский театр тоже процветал в царствование Павла, несмотря на все предубеждения императора против Франции. На французской сцене в особенности отличалась m-me Шевалье (сестра танцовщика Опоста). Она занимала первые амплуа в комических оперетках и блистала своей игрой и пением, а главное, что делало ее особенно сильной в разных столичных мирках, это ее близость к Кутайсову, который был ее безусловным поклонником. К ней прибегали за протекцией, просили о местах и пособии. Муж ее сидел в передней и докладывал о посетителях, которых жена принимала как королева. Одно слово ее Кутайсову, записочка Кутайсова к генерал-прокурору или другому сановнику – и дело решалось тотчас же.
Француз Фельет в громадных своих залах давал публичные маскарады, посещаемые всем высшим сословием и нередко даже членами царской фамилии. За вход в фельетовский маскарад, равно как и за места в театральных партерах, куда ходила вся молодежь лучших фамилий и все гвардейское офицерство, взималось тогда по одному рублю медью. В этих маскарадах можно было и поужинать, причем, например, жареный рябчик стоил 25 коп. медью, а бутылка шампанского – два рубля, обыкновенное же столовое вино весьма порядочного сорта от 40 коп. до полтины за бутылку.