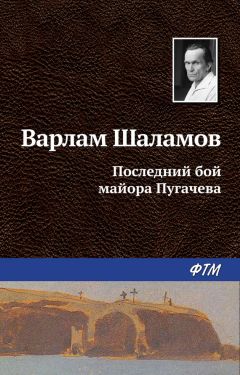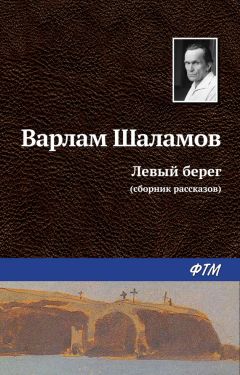Анатолий Найман - Каблуков
Инстинкт, скажете вы, инстинкт, похоть, либидо. А вот это-то меня уже прямо отталкивало. В отличие от стихии барышень, постелей, частей тела, которая меня просто не захватывала - кроме уникального ее проявления в виде Тони, ее постели, ее тела, - эти вурдалаки, чудища, привидения пещер внутренней секреции вызывали во мне жгучую неприязнь и желание отбиваться. С Тоней было, как, надо думать, у всех со всеми, как у любого Лени с Соней: повышалась температура мозга, горело лицо, губы, в груди, подушечки пальцев, спускалось все ниже, и это же поднималось от пяток к коленям и все выше, пока не сходилось огнем в нежном отростке плоти. Наивное описание, но ведь и совокупление - наивная вещь. Как это происходило у Сони с Леней, не знаю, а только догадываюсь, потому что не знаю, а только догадываюсь, как это происходило у Тони со мной. Ну так же, так же, понятно, что так же. Не заниматься же нам с ней обсуждением - смешиваясь с другими, превращаясь в других... От электрического же разряда, в непредсказуемый миг пробегавшего между мной и кем-то посторонним только потому, что этот посторонний привлекательная женщина, я ощущал жар неприятный, зуд, сбой дыхания, толчки крови, перекликающиеся с позывами тошноты. Это меня насиловало, мне ничего не оставалось, как давать отпор. Начинающаяся в таких случаях возня мышц вызывала ярость, смешанную с отвращением и отчаянием: что значит непроизвольно?! как это так, что я не хочу этого - и не властен остановить?!
Еще был эрос - не сама чувственно-эстетическая сфера любви и не ее обозначение, а вполне конкретный. Вещественный, как Эрот Праксителя или Лизиппа, однако не красавчик с крылышками, а черт. Точнее, маленький чертенок. Прячущийся за занавеской или шмыгающий из угла в угол. Третий развлекающий себя тем, что делают двое, вуаёр. Мы его с Тоней не любили привыкли, но не любили. Это она его заметила и мне показала. Сначала его не было, года, наверное, три. Мы тянулись друг к другу, захватывали один другого, ласкались уже как звери, теряли соображение, и - никакого эроса, то есть никакой мысли о нем. Позднее она сказала - опять первая, я, правда, уже думал об этом, только не стал ей говорить, - что хотя мы делали это не ради того, чтобы в результате родился ребенок, но такой результат подразумевался сам собой. Когда же поняли, что ребенок не рождается, и приняли - без тоски, без скорби, не как приговор, а как условие или данность, с короткой легкой грустью - что он может никогда не родиться, тогда идея его, бессознательная и больше похожая на интуицию, ушла из нашей психики, и в зевнувшую пустотой дыру сразу всосало эрос. Отныне мы делали это, зная, что делаем только ради друг друга, а стало быть, ради самого деланья. Отныне этим - и, стало быть, нами - распоряжался эрос. И, естественно, на правах оккупанта входил в дом без спроса и предупреждения.
Когда я увидел тогда Тоню, и дело ни с того ни с сего повернуло на танго, и пять битых часов она учила меня разнице между тем, чтобы двигаться в нем - и просто двигаться под его мелодию и ритм, а потом разнице между тем, чтобы двигаться в нем - и танцевать его, а я держал ее одной рукой за руку, другой за спину и с ней в это время под музыку говорил, я подумал: жизнь - драгоценность. Или: она может быть драгоценностью. Или: я буду к ней относиться, как будто она драгоценность. К ней - все равно к кому-чему: к жизни или к Тоне. А возможно, я так подумал еще раньше - возможно, я так подумал в первый раз, как о чем-то подумал, и это было: вот, я думаю, и, кажется, я думаю о том, что жизнь - драгоценность. Та, которую человек и не мечтал найти, а найдя, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Одну. Одна драгоценность, если она та самая, всегда драгоценнее двух, тем более многих. Много - это просто богатство, это совсем другая опера. Богатство - это обеспеченность, покой, благополучие. Или - на другом краю тех же качелей оно азарт, тревога, неуверенность. Это когда твой конец доски идет вверх. А когда он идет вниз, то же самое может вдруг обернуться сонливостью, отупением, омертвлением.
"Он с ней то-то, она ему се-то". Чушь! То, чего я в Тоне и не мечтал найти, а с того момента, как нашел, уже стал искать, хотел получить, добивался: изгибчивость, плавность, одна грудь и другая, и вместе - груди, и такие же, да не такие ягодицы, подмышки, руки, вытягивающиеся до прямизны, ноги, сгибающиеся, подворачивающиеся, волосики шелковые, но тугие, почти твердые и так далее, и так далее, без конца, потому что в каждый следующий раз изгибчивость, плавность, грудь, груди и все прочее были уже другими, не теми, - все это не имелось у нее, как бижутерия, сложенная в шкатулку, а оказывалось - в тот миг, когда я на это натыкался. Что мы в постели изобретали - в том техническом смысле слова, какой ему придавали трубадуры (тробар, "находить", Аверроес просветил), - всегда только вместе, вдвоем, и всегда импровизация. Как джаз. Уже, наверное, сравнивали, но ведь, небось, с ухмылочкой: дескать, там наяривают - и здесь. А я про то, что не ноты, а экспромт, не для других, а для себя и друг для друга, не искусство, а творчество. В джазе, положим, тоже полно артистов, которые, как говорит герой Сэлинджера, пускают показные трели, раскланиваются деланным поклоном и сами уже не знают, хорошо они играют или нет. Но те, из-за кого он все-таки джаз, а не концерт, ничего, кроме него, не слышат, не знают, не хотят. "Я бы заперся в кладовке и там играл".
Итак, кто там сообщает "познакомились, обоим не было восемнадцати", отложите перо, отодвиньтесь от клавиш. Пишите дегтем на моих воротах: "квазидевственник", "недоскопец", "противоестественные наклонности", "трусливая сексуальность", - чем там еще клеймит продвинутая мысль таких, как я? Мне плевать. Я никого не призываю подражать, тем паче воздерживаться да и просто менять хоть что-то в том, как у кого это сложилось. Я живу среди торжества промискуитета, тотальной практики промискуитета, цивилизации промискуитета, мои друзья - промискуитетчики, некоторые из них выдающиеся, они мне дороги, мной любимы, пусть так и будет, у меня нет возражений - но меня оставьте быть моногамным.
Тоня моя, бедная Тоня, она умерла, ее больше нет.
XV
... только те, в какие я с ним попала. Или можно сказать: от него получила. Благодаря ему пережила. Тут равенства нет: для того, что он от меня получил, благодаря мне пережил, я ничего не сделала. От меня не зависело, я была, какая была, ничего не предпринимала, никак специально не действовала, ничем с ним не "занималась". Вообще об этом не думала. Он, конечно, тоже к этому, как к чему-то, что следует выделить в особое занятие, что надо совершать не так, а так, к чему чуть ли не готовиться в воображении, не подходил. Но он это осмысливал. А я ни от чего остального не отделяла: от готовки на кухне и мелкой стирки в ванной, от обеда за одним столом, от сна в одной постели, от ожидания его прихода со студии, от предвкушения своего прихода с работы, когда он дома. От нашего бесконечного разговора и тоже бесконечного молчания.
Это у Пушкина где-то - что первый мужчина производит на женщину такое впечатление, как первый убитый на войне. Приходится верить на слово, потому что у меня первый, и второй, и двадцать второй - один и тот же Коля. И я признаюсь, что не помню, какой он был первый. Я помню, что как-то так это с первого раза пошло, что через несколько дней, после очередного его надо мной разбоя с моей же наводки и при моей жадности в дележе добычи и соперничестве за то, чтобы шайку возглавить, мы лежали, как лежали, и я сказала: "Ну что, купил остров не с теми полезными ископаемыми?" Не знаю, с чего вдруг, - как будто не мной сказалось, само. А он ответил: "Не больно я знатный рудознатец". Мы еще сколько-то так побыли, пока к нам трезвое сознание вернулось, я спросила: "Откуда у тебя такие слова?" "Не мои, где-то слышал. Там же, где ты про остров с залежами минералов". А говорят: оргазм! оргазм! вместе, одновременно! Тоже мне, достижение.
Да тут всё - вместе, всё - в одну и ту же минуту. Ничего моего, отдельного не было. Вернее, мое было только в том, что вместе. Но это я головой так понимала, да и то за ним повторяя. А если бы без подсказки, без соглашательства, если бы думала то, что чувствовала, свободно, то не "вместе", а "его": мое было только в том, что его. Его не было - и ничего не было, никакого "вместе". Если то есть не выдумывать, не обообщать, не строить силлогизмы и абстракции. Потому сейчас, когда от этой химии, и облучения, и терапии не только волосы вылезают, а и всё, что сложнее дважды двух, всё, что в мозгу лишнее, нужное, только чтобы говорить ненужное, поддерживать разговор, которому ни к чему разговаривающие, я профессору, на обходе спросившему мое имя, и представилась: "Госпожа Николай Каблуков", как нас с Колей недавно на приеме в консульстве: "Мистер и миссис Николай Каблуков".
Коля мне однажды сказал: "Ты как-то сказала, что хорошая пара та, в которой муж слушается жену. А в которой не слушается, плохая. Я, как с хорошей парой сталкивался, так вспоминал. А их раз, две, ну десять. И все только такие. Так что признаю стопроцентную твою правоту. Что значит, что не рассуждая тебя слушаюсь. Что значит, что мы пара хорошая". Я такое говорила? Я вроде бы не так говорила. Я, наверное, говорила: муж жену слушается, а она его обожает. Или: слушается, потому что он в миллион раз ее умнее, потому что так умен, что понимает, что жизнь задумана, чтобы ее умом не понимали. А у женщин как раз этой части мозга, чтобы понимать, нет, зато есть такая, которая того же состава, что жизнь, и они этой частью знают, как жить. Знание такое - что надо жить, и всё. Или: слушается, потому что она его так обожает, что как тут не слушаться? А еще (привычно приблизив губы к уху): ведь когда надо, когда сжимает, ломает и себя не помнит, то, как миленький, прекрасно слушается. И еще: она, если он не слушается, может решить, что или все мужчины не способны слушаться, а не только он, или это именно ее не готов слушаться ни один. Что в обоих случаях может привести к мысли: надо проверить - от каковой пара автоматически становится не просто плохой, а никуда не годной, иначе говоря, непарой.