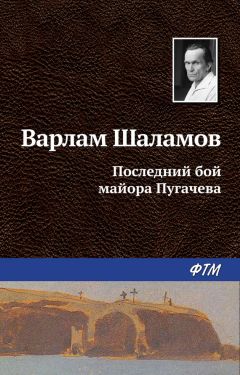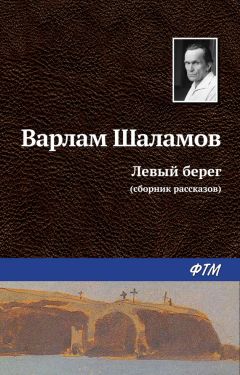Анатолий Найман - Каблуков
Наконец десятка с Хромовым. Зловещая улыбка возникает на лице командира части, когда он уставляется взглядом в лицо жены, в крайнем волнении впившейся глазами в лицо замполита. Следователь поворачивается к ней. Тянутся секунды, все более невыносимые. Она выбрасывает в сторону Хромова руку и без голоса шепчет: "Вот этот". Полковник встает и насмешливо обращается к нему: "Ну, замполит, что теперь будем ставить?" И тот спокойно отвечает: "Пантомиму "Прекрасный Иосиф". Есть такая. Пьес вообще хватает".
Когда дело уже дошло до собеседования и Каблуков оказался в комнате, где сидела приемная комиссия, все глядели на него доброжелательно. Председатель сказал, что он зачислен на курсы, поздравил, задали парочку необязательных вопросов, про прошлое и про будущее, замолчали, пора было отпускать, но и неловко, что так коротко, и старый кинодраматург спросил: "Так вы в стройбате служили?" Он ответил на вопрос без подробностей: "Нет". "А в каких войсках?" "Я в армии не был". "Как так?" Повисло настороженное недоумение. Кто-то помоложе, чтобы замять, сказал: "Феномен Высоцкого. Такое поколение. Не воевало, по лагерям не сидело, а пишет достоверно". И другие закивали головами: "Высоцого, Высоцкого. И Бродский этот самый. "Если я в окопе от страха не умру"". Но старик не унимался: "Это что же, фантазия?" "Отец военный", - сказал Каблуков. "А-а, отец. Понятно. А вы, значит, воинской повинности избежали?" Каблуков с того момента, когда они с Тоней решили, что курсы - это как раз то, что ему нужно, одновременно и хотел на них попасть, и не очень хотел. А сейчас вдруг вообще расхотел. Точнее, дать откровенный ответ показалось ему в эту минуту важнее всего на свете. Дружелюбно глядя в глаза драматургу, он сказал: "Да, Бог миловал".
XIII
Было два плана в этом наброске, к которым Каблуков заведомо имел претензии и знал, что поправить дело так, как он хочет, ему не удастся. Первый - это ускользающая от изложения сюжета боль, засевшая во внутренностях всех без исключения действующих лиц, настолько за годы отупевшая, что почти ими не замечаемая. Лишь мгновениями обостряющаяся, а в остальное время не больше, чем тень боли, присутствующая как воспоминание о том, как когда-то ее не было. Делая полномерный сценарий, Каблуков написал несколько эпизодов на эту тему. Например, репетиция кончена, все расходятся, Хромов укладывает в папку разрозненные листки с текстом, и Виолетта, явно ради него задержавшаяся на сцене, вдруг говорит: "Интересно, какие у них были бы дети, черные, как он, или в Дездемону?" Из темноты зала раздается голос полковника: "Негр своей смолы в ее молочко бы натолкал". Не обращая внимания, она продолжает спрашивать: "А вы были женаты?" Хромов нехотя отвечает: "Давно". "Ну как давно?" "Еще младшим лейтенантом". "А детей не было?" "К счастью, нет". "А у нас есть, - опять вступает полковник. Красная Армия - вот наши дети! Да, Виолетка-пятилетка? Сколько надо дочерей, сколько надо - сыновей, без счета - внуков. Старшие, младшие, успешные, неудачники, сами с усами, списанные в утиль - все! Немножко мы, конечно, их Красной Армией до жизни не допустили, немножко до светлого будущего не довели. Немножко опозорились. Но она их по полной нам заменяет. И дом наш, родовое наше именье, и сад при доме, и летнее солнышко, пляж, теннис - всё Красная Армия. Пойдем, майор, попьем с тобой сегодня побольше водки, очень ты мне нравишься". Через несколько часов, тяжело поднявшись из-за стола, уставленного пустыми бутылками в окружении полной окурков пепельницы, разломанной буханки хлеба, нарезанной колбасы, он берет за грудь и за ремень лежащее на полу бесчувственное тело Хромова и отволакивает в угол. Скатывает половик, подкладывает ему под голову. Тут же выдергивает, так что затылок стукается об пол, и дважды пинает в поясницу ногой. Уходит, возвращается, перетаскивает на диван, укрывает половиком, неподвижно стоит, смотрит на него, вдруг замахивается, но не бьет, а со злобой плюет в лицо и сразу начинает вытирать, тщательно, почти с нежностью.
Эта и еще несколько похожих сцен в какой-то мере передавали, казалось Каблукову, последнюю степень измученности всех их - "несчастных сукиных детей", как тянуло его повторять за Фолкнером. Их жестокость и их слабость одинаково вызывали сострадание. А если не вызывали, если не вышло у него так написать, чтобы вызывали, то, стало быть, и не выйдет. Но даже если и вышло, то ведь жалость сопутствовала как раз тому состоянию, когда боль в них обострялась. А жалко ему было их всегда, и гораздо жальче, когда они к ней притерпевались до того, что не обращали внимания, - когда им было спокойно, привычно, уютно, даже весело.
А второе, что его не устраивало, - это что о вожделении, желании, сладострастии женщин и как это у них проявляется, а главное, как в ответ ведут себя мужчины, он писал, постоянно наблюдая и страсть, и похоть тех и других, наблюдая вплотную, непосредственно, но сам никогда не участвовав. Никогда - потому что вожделение, желание и сладострастие Тони, точно так же как свои, выкладывать на бумагу, то есть выставлять на публику, - именно потому, что они были исключительно их двоих, - естественно, не мог, а никого, кроме Тони, у него ни разу не было. Не изменял он ей не из каких-то моральных принципов или соображений личной нравственности, а потому, что ни к кому, кроме нее, ни разу не испытал ничего похожего на сладострастие, всегда одну ее желал и, если вожделел - хотя сказать так про него было бы все-таки натяжкой, да и про остальные шесть миллиардов тоже: кто это кого сейчас вожделеет? - то только ее.
Они познакомились - обоим не было восемнадцати, и никаких историй любовных, никаких романических, эротических, тем более сексуальных, до этого не было, и все, какие за время жизни были, были только те...
XIV
... только те, какие были у нас друг с другом. Не знаю, кто это обо мне говорит, и, кто бы ни говорил, думаю, он знает обо мне много меньше моего. Где-то что-то видел, что-то слышал. Единственное его передо мной преимущество, впрочем, сомнительное, - это более или менее выверенная постоянная дистанция, с которой он меня наблюдает. Так вот: не то чтобы у меня никогда не возникала мысль о - самое точное слово тут будет законническое - прелюбодеянии. О блуде - блуде вообще, все равно с кем никогда: ну не возникала, что поделаешь. А о прелюбодеянии, с какой-то конкретной женщиной, бывало, что в голову и бросалась - когда женщина обжигала. И потом, когда этот миг ожога проходил, а дольше мига он не длился, я эту мысль обдумывал. Недолго - надолго ее не хватало. Это дело личное, правильно, но вовсе я не стесняюсь сделать его публичным. Чтобы другой не сделал, если с перепугу захочет. Просто никто меня об этом не спрашивал, никто на такой разговор не подбивал. А сейчас, когда кто-то со стороны рассматривает и обсуждает, то, как говорит монах у Пушкина, давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит.
Я женщинам то, что называется, "нравился", не буду притворяться, что этого не замечал. Тоня тоже "нравилась" мужчинам - настолько, что в том ленинградском кругу, к которому мы с молодости принадлежали, ухаживать за ней считалось даже модным. Показательнее всего мог бы стать пример Бродского - если бы он так откровенно не давал всем чувствовать, и мне, по понятной причине, первому, что Тоня, за которой он ухаживает, существо, недоступное ничьему, кроме его, пониманию. Возможно, и ее собственному. В его ухаживании главное было то, что o н его предпринял, o н на него пошел. Получалось, что ту Тоню, к которой он демонстрировал - и был при этом совершенно искренним - влюбленнность, он и нашел, и отличил, и превознес, потому что сам и создал. Тягаться с идеальностью, навязанной им предмету, было под силу одним ангелам. Но с тем или иным ущербом присутствовала она в отношении к Тоне почти всех, кто ею, так сказать, увлекался. Не в моем: я входил в число "почти", может быть, один это число и составлял. Моя Антонина была ноль идеальности, сплошной ущерб. Желание, влечение, обладание - всё в величинах непревосходимых, как скорость света и ноль по Кельвину. И это с первого раза, с того самого, когда мы одновременно лишили друг друга девственности и получилось оно так ладно, как будто до того мы уже год, три, пять были мужем и женой.
Сейчас дам вам надо мной посмеяться: я много про это читал, а еще больше в кино видел. Смейтесь, только не оказалось бы, что преждевременно. Все, что я прочел и в кино увидел, от "Золотого осла" до "Манон Леско", от "Анны Карениной" до "Тропика Рака", от "Травиаты" в постановке Дзефирелли до "Эммануэли" и порнофильма, на который я наткнулся в телевизоре в номере берлинской гостиницы и смотрел восемь минут, что зафиксировано в оплаченном мной при отъезде счете, - сделало меня моногамным бесповоротно. Моя моногамность была органической и, как все органическое, подверженной опасностям, слабости, порче, распаду. А стала, если хотите, косной - как это можно сказать про вкус, абсолютно удовлетворяющийся тем, что в наличии, на столе, на книжной полке, а не вообще, чем-то где-то. Была Тоня, и я не находил в себе никакого интереса - никакого - заниматься этим с Любой, Лялей, Джиной и Мэрилин. С Тоней этого хотелось, с какой-угодно другой толкало бы разве что любопытство. А какое может быть любопытство к тому, что расписано по пунктам, сведено в протокол, и протокол этот знаешь наизусть?