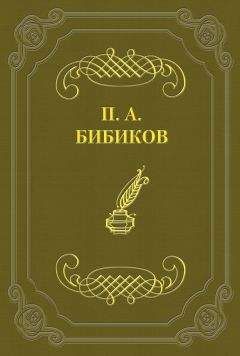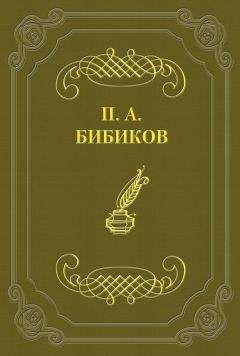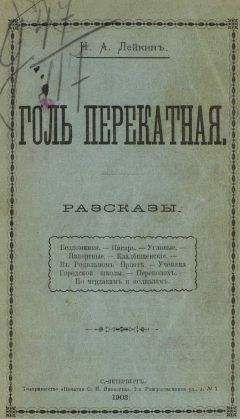Николай Лейкин - Апраксинцы
— Смотри, въ той комнатѣ водка стоитъ, такъ чтобъ молодцы не отлили, да не накерались.
— Хорошо-съ.
Въ другой комнатѣ у женщинъ шелъ разговоръ о томъ, что въ Вихляндіи антихристъ народился.
— Это точно-съ, вмѣшивается въ разговоръ гость, не играющій въ карты. — Портретъ даже евонный продаютъ; въ вѣдомостяхъ было написано.
— Убить-бы его, Агафонъ Иванычъ!
— Нельзя-съ, потому что онъ все одно что змѣй, его ничѣмъ не проймешь.
— Такъ войной-бы пошли.
— Вѣрно ужъ невозможно-съ.
— Что же онъ, батюшка, пьетъ и ѣстъ, какъ и мы?
— Ничего не ѣстъ, окромѣ христіанскихъ душъ: четыре кажинный день съѣдаетъ.
— Анна Ивановна! Наталья Дмитренна! вареньица-то, постилки-то? Кушайте пожалуста! — угощаетъ Аграфена Ивановна.
Гостьи съѣдаютъ по ложкѣ варенья.
— Теперь мадеркой запейте!
— Не могу, мать моя, и то двѣ выпила.
— Да понатужьтесь маленько, и выпьете.
— Право, я ужъ пила.
— Какая-же вы пила, Наталья Дмитревна? На пилу вовсе не похожи, съострилъ гость, повѣствовавшій онъ антихристѣ.
У стола съ закуской сидѣли Ваня, его пріятель, Шаня, завитой фертикъ, съ буклями на вискахъ въ видѣ сосисокъ и Ларя, юноша въ сертукѣ ниже колѣнъ и въ черномъ бархатномъ жилетѣ малиновыми червячками. Они говорили въ полголоса.
— Я тебѣ скажу, Шаня, Машка мнѣ во всемъ потрафляетъ, разсказывалъ, размахивая руками, Ваня: просила она меня привесть ей на платье, — третьяго днясь тятенька ушелъ въ баню, я взялъ изъ лавки цѣлую штуку матеріи и къ ней. Привезъ. Она мнѣ: «зачѣмъ это ты, говоритъ, Ваня, на два платья одной матеріи привезъ? — лучше бы разной.» — «Ничего, говорю, другой привезу, а эту бери, коли даютъ.»
Шаня былъ уже выпивши.
— Все-таки. Катька не въ примѣръ лучше ея.
— Тише, тятенька слышитъ.
Замѣтивъ, что отецъ смотритъ на него, Ваня тотчасъ-же перемѣнилъ разговоръ.
— Ларя! съѣшь кусочикъ сладенькаго пирожка.
— Можетъ это скоромный, а нынче пятница.
— И - что ты? я вѣдь самъ не ѣмъ скоромнаго. Да и тятенька у насъ, ежели что въ посту скоромное, все въ форточку побросаетъ. А я тебѣ скажу, она мнѣ все-таки во всемъ потрафляетъ, продолжалъ онъ, увидавъ, что отецъ не обращаетъ болѣе на него вниманія. — Я у ней разъ какую-то чернильную выжигу голоштанникомъ обозвалъ; тотъ было на дыбы, къ тятинькѣ жаловаться хотѣлъ идти, такъ она уговорила его. помирились; только значитъ я ему за безчестье двадцать пять рублевъ заплатилъ.
— Все-таки Катька краля передъ ней?
— А я тебѣ скажу, что для Катьки я ничего не пожалѣю. Пойдемте братцы, выпьемте шампанеи; у меня въ молодцовой есть бутылочка.
— Голубчики! говорила одна гостья, кивая на уходящихъ Ваню, Шаню и Ларю — и не думаютъ о судьбѣ [13], а можетъ-быть она и близка. Что, вы еще Ваничку-то не порѣшили? обратилась она къ Аграфенѣ Ивановнѣ.
— Нѣтъ еще, Матрена Ивановна….
— Пора, пора! долго-ли до грѣха, — избалуется, молодо-зелено.
— И - что вы! онъ у насъ такой скромный, никуда одинъ не ходитъ, развѣ по дѣламъ. Признаться сказать, у насъ есть одна на примѣтѣ, и хорошая бы дѣвушка, да денегъ мало за ней — восемь тысячъ; а Иванъ Михѣичъ меньше десяти не хочетъ взять. «Пусть, говоритъ, лучше до тридцати лѣтъ оболтусомъ болтается, а меньше десяти тысячъ не возьму».
Въ молодцовой молодцы, ободренные той водкой, которую имъ прислалъ отъ щедротъ своихъ хозяинъ, собрались въ уголъ и поютъ въ полголоса.
«Крестъ начертавъ
Моисей, прямо жезломъ….»
— Стой ребята! не такъ! чего ты, Ѳедоровъ, горланишь? спускай октаву, чтобъ глуше выходило, будто бомбу по полу катаешь.
Въ другомъ углу Ваня, Шаня и Ларя пьютъ шампанское.
— Ты что-жъ Ларя, дерзай!
— Я не пью, отвѣчаетъ Ларя: — тятенька не велитъ.
— Мало-ли чего онъ не велитъ. Пей! Нешто онъ видитъ.
Баба!
«Что-жъ, неужели я и въ самомъ дѣлѣ баба?» подумалъ Ларя и выпилъ.
— Сладко?
— Еще-бы не сладко. Вино его отуманиваетъ.
— Дивлюсь я братцы, на васъ, откуда вы деньги на кутежъ берете?
— Знамо откуда, — изъ выручки.
— Я такъ и рубля взять не могу; у насъ за выручкой старшій приказчикъ стоитъ.
— А нешто онъ не хапаетъ?
— Извѣстно хапаетъ. Молодцы сказываютъ, что у него четыре тысячи въ нагрудникѣ зашито.
— Ахъ ты дура-голова, а ты заставь его, чтобъ онъ съ тобой дѣлился; а нѣтъ, я-де тятенькѣ скажу.
— Знаете что, братцы? — дернемте-ка сейчасъ къ Машкѣ, подалъ совѣтъ Ваня.
— Валяй!
— А тятенька…. заикнулся Ларя.
— Тятеньки наши не замѣтятъ: они въ горку играютъ, и страхъ какъ разъярившись. У меня тутъ на углу лихачъ знакомый стоитъ, — живымъ манеромъ доставитъ. Надѣвай, чьи попадутся, шубы, шапки и валяй!
Они вошли въ залу. Тятенька Лари проигрывалъ; онъ пыхтѣлъ и потиралъ рукою животъ. Потъ съ него лилъ градомъ. Ларя подошелъ къ столу. Въ эту минуту тятенька его проигралъ. Оборотивишсь, онъ увидѣлъ сына.
— Ты что стоишь подъ рукой! какъ подошелъ, такъ я и проигралъ, закричалъ онъ на него.
— Я ничего-съ.
— Пошелъ прочь!
Дьячокъ сидѣлъ съ гостемъ, повѣствовавшимъ объ антихристѣ.
— Доложу вамъ, разсказывалъ дьячокъ: у насъ въ семинаріи октава была, Нерукотворенный фамилія ему, такъ въ трезвомъ видѣ и пѣть не могъ; а водки выпьетъ, такъ хоть три часа къ ряду будетъ пѣть. Приступимъ и приложимся къ благодати (показываетъ на графинъ).
— Ну, теперь попремте, братцы. Ларя у тебя въ сюртукѣ-то незамѣтно, спрячь бутылочку хересу. Съ собой возьмемъ.
Двѣнадцатый часъ. Графины долили водкой. Лица мужчинъ дѣлались все краснѣе, и краснѣе; на нихъ выступалъ обильный потъ. Платки то и дѣло подносились ко лбу. Ваня, Шаня и Ларя еще не возвращались. Молодцы мало-по-малу начали выглядывать изъ молодцовой въ комнаты, гдѣ были гости, а старшій приказчикъ Спиридонъ Иванычъ стоялъ у стола и смотрѣлъ на играющихъ въ карты.
— Что, братіе, стоите? отдернемте-ка «моря чернаго пучину», говоритъ молодцамъ дьячокъ. Иванъ Михѣичъ! позволь, по благодати, спѣть съ твоими молодцами?
— Пой, пой!
— Ну, становись, басы къ стѣнѣ, тенора впередъ. Валяй!
Молодцы рѣшились не вдругъ. Басы взялись за подбородки, тенора покосились глазами и начали. Окончивъ ирмосъ, они пошептались между-собою и гаркнули въ честь хозяина.
Мы тебя любимъ сердечно,
Будь намъ начальникомъ вѣчно,
Наши зажегъ ты сердца,
Мы въ тебѣ видимъ отца.
Рады въ огонь мы и въ воду.
Во всякую не погоду;
Каждый съ тобою намъ край
Кажется рай, рай, рай!
Иванъ Михѣичъ былъ очень доволенъ; онъ даже всталъ изъ-за картъ. Въ довершеніе всего, дьячокъ началъ басомъ: «достопочтеннѣйшему хозяину Ивану Михѣичу, многая лѣта!» «Многая, многая лѣта», запѣли молодцы; они кричали такъ громко, что даже серебро звенѣло въ горкѣ.
Гость раскольникъ только отплевывался. Затравкинъ въ десятый разъ пьетъ за здоровье хозяина.
— Будь здоровъ! просто, братъ, разодолжилъ! важный балъ задалъ намъ сегодня, — ну, поцѣлуемся. Только однако нѣтъ музыки; а то я бы поплясалъ, выкинулъ бы колѣно.
— Мызыки нѣтъ? — будетъ. Зачѣмъ дѣло стало? Спиридонъ, поди позови сюда Никифора; пусть беретъ гитару и идетъ сюда. У насъ, братъ, свой бандуристъ.
— Микифоръ, Иванъ Михѣичъ, не можетъ играть.
— Это что, коли я приказываю….
— Да спитъ; хмѣлемъ маленько зашибшись.
— Ахъ онъ мерзавецъ, ужо я его!
— Да все одно-съ, не извольте безпокоиться; Степанъ на этомъ струментѣ маракуетъ.
— Тащи его сюда.
Явился Степанъ и началъ настраивать гитару. Приготовляясь плясать, Затравкинъ снялъ съ себя сюртукъ и кинулъ въ сторону, только такъ неловко, что онъ попалъ прямо на голову одной изъ гостьевъ. Раздались звуки «барыныни», и онъ началъ отхватывать трепака.
— Лихо, айда Затравкинъ, вотъ такъ разодолжилъ! кричали гости.
Затравкинъ по истинѣ отличился: онъ вошелъ въ такой экстазъ, что снялъ съ себя сапоги и, надѣвъ ихъ на руки, началъ ими трясти и прихлопывать, какъ то дѣлаютъ ложками полковые плясуны. Когда онъ кончилъ, его подняли на руки и начали качать. Во время пляски одинъ изъ молодцовъ успѣлъ стянуть со стола початую бутылку хересу.
— На рукахъ возьмутъ тя! воскликнулъ дьячокъ, смотря надъ подбрасываемаго кверху Затравкина и отъ удовольствія потирая желудокъ.
— «Мерзость!» проговорилъ раскольникъ и плюнулъ чуть-ли не въ десятый разъ.
— Чѣмъ-же? спросилъ дьячокъ.
— Тѣмъ-же, что плясаніемъ бѣса тѣшатъ.
— На пиру да воспляшутъ! даже самъ псалмопѣвецъ, Давидъ, скакаше, играя.
Дьячокъ понюхалъ табаку, раскольникъ снова плюнулъ и отвернулся.
— Табашники, любодѣи и плясаніемъ бѣса тѣшущіе, всѣ будутъ горѣть въ огнѣ неугасимомъ.
— Табашники-то за что же?