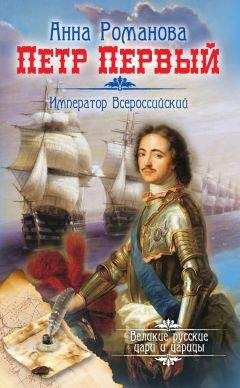Вадим Кожевников - Заре навстречу
— Спасибо вам, голубчик! — и произнес горячо: — Да, при рождении человек плачет, а все его близкие радуются; и нужно прожить жизнь так, чтобы, когда покидаешь свет, все плакали, а ты один улыбался, зная, что не зря прожил жизнь. Теперь я понимаю, почему вы такой.
Понимаю. — И еще раз пожал тощую, потную, слабую руку Сорокина.
После этого Андросов сказал Сапожкову:
— Петр Григорьевич, я всегда полагал, что люди делятся по своему психологическому складу на тех, кто убежден, что с ними никогда ничего плохого не случится, и на тех, кто, напротив, убежден, что именно они-то обречены на самые ужасные несчастья. А сейчас я убедился, как неумна подобная классификация.
Прибирая инструмент, папа укололся о иглу шприца, охнул, замотал кистью, как балалаечник, и потом сунул палец в рот.
— Голубчик, — укоризненно сказал Павел Андреевич, — ну разве можно будущему врачу применять подобные методы? — Прижигая палочкой ляписа место укола, спросил ласково: — Душонка небось тоскует? Не дает ей хозяин в докторском халате щеголять.
— Да, — признался Сапожков, — тянет, как больной зуб, — и тут же твердо заявил: — Мне, в сущности, повезло. Арестовали, когда уже на третьем курсе был, а могли бы посадить и раньше, — и пожаловался: — А вот Варенька даже гимназии не окончила, с семнадцати лет начала посиживать. А у нее, знаете ли, талант — голос исключительный. Колоратура!
В палате лежали разные люди, доктора различали их по степени сложности заболеваний, и самые тяжелобольные пользовались наибольшим вниманием и даже, пожалуй, уважением.
Но вот Сорокина больные уважали совсем не за то, что он неизлечимо болен. Когда он поступил в больницу, он вовсе не лежал, как теперь, все время на койке, а присаживался к другим, беседовал, выспрашивал про жизнь и даже помогал сестре и няне ухаживать за больными. Часто уходил в аптеку за дощатую перегородку и там помогал аптекарю поляку Сборовскому тереть мази в ступке, развешивать порошки на весах.
Когда папа осведомлялся о его самочувствии, Сорокин только нетерпеливо отмахивался и начинал советовать папе, где можно достать березовые дрова для больницы, олово, чтобы запаять проржавевшие грелки, называл фамилию гончара, который мог бы сделать подсовы для больных, и даже написал письмо этому гончару, с которым он когда-то был на каторге еще после девятьсот пятого года.
— Он хоть и беспартийный, — говорил папе Сорокин про гончара, — но человек настоящий. Сделает из глины подсовы не хуже фаянсовых. Я ему так и пишу: выполни, мол, свой пролетарский долг. Напоминаю, как из крепко обожженной глины оболочки для бомб готовил. Отлично действовали, не хуже чугунных.
Многие больные в палате советовались сначала с Сорокиным, а уж потом с врачами. Получив от врача совет, спрашивали Сорокина, как: врач правильно говорит или нет, словно Сорокин был здесь самый главный начальник.
Петра Григорьевича Сапожкова с каждым днем все больше беспокоило состояние здоровья Павла Андреевича Андросова. Наблюдая за ним, он находил все новые подтверждения своим тягостным опасениям. Всякие же попытки Петра Григорьевича поговорить об операции пресекались Андросовым грубо и категорически.
В свое время, достигнув материальной независимости, Андросов не раз заявлял во всеуслышание:
— Я никогда не был услужающим ни государству, ни обществу, ни ближним.
О профессии врача говорил пренебрежительно:
— Когда наипочтеннейшие державы озабочены обоюдным истреблением людей, врачи и попы выступают рука об руку в качестве шарлатанов-утешителей.
Подобные мысли не помешали ему подписаться на крупную сумму на военный заем при Временном правительстве. Он сказал цинично:
— Даже наимудрейшие граждане были не в состоянии оценить всего курьеза: медик, вносящий дары на приобретение средств умерщвления. Более гнусного анекдота не придумаешь.
Хотя Андросов с презрением относился к именитым гражданам, это не мешало ему разделять их общество и дорожить в нем своим положением независимого человека, пренебрегающего всем, кроме собственного благополучия.
В первые годы практики Андросов дерзнул оперировать больного ребенка, тогда как все городские врачи считали случай безнадежным.
Это была редкая по смелости операция. Ребенок был спасен, хотя и остался калекой.
Но после операции Андросов допустил неосторожность, упрекнув докторов в том, что они больше дорожили своей репутацией, чем жизнью ребенка, и запустили его болезнь до предела. В ответ на это они сразу же объявили Андросова виновным в искалечении ребенка. А доктор Неболюбов даже назвал его компрачикосом.
Замечательная операция была забыта. Многие годы Андросова преследовала злая молва: "Бездушный фокусник" — так озаглавил свой фельетон об Андросове Николай Седой.
В своей больнице на шесть коек Андросов самоотверженно трудился, сделал немало смелых, интересных операций. Но, глубоко оскорбленный всем, что с ним случилось, не хотел предавать работы огласке.
Да и, пожалуй, пойти в первую советскую больницу его побудило скорее желание выказать свое пренебрежение к мнению коллег, чем нечто большее.
Но когда пришло это большее и он постепенно начинал верить, что действительно возможно иное устройство общества ради лучшей жизни человека на земле, — оказалось, что дни его собственной жизни сочтены.
Андросов аккуратно заполнял заведенную им на самого себя историю болезни. Фекле Ивановне он сказал:
— Если бы я мог сам себя оперировать, эта операция, возможно, прославила бы хирурга, но не спасла больного.
Наиболее опытным врачом в городе считался Неболюбов. Он мог бы, пожалуй, рискнуть оперировать Андросова. Но Андросов считал Неболюбова посредственным лекарем, который стяжал себе популярность всякими либеральными затеями, вроде создания Общества содействия физическому развитию, в то время как тысячи людей ежегодно гибли от эпидемий, голода и нищеты. Как хирург Неболюбов, по мнению Андросова, находился на уровне рядового земского врача, но не больше. И он был почти прав.
После девятьсот пятого года Неболюбов, потрясенный жесточайшими репрессиями, отшатнулся даже от своей просветительской деятельности и весь ушел в медицину.
Но и тут он не мог отделаться от гнетущего страха за свое существование. Чтобы не навлечь на себя подозрений в либерализме, не привлекать к своей персоне внимания, Неболюбов тщательно избегал тех случаев, когда врачебное вмешательство было связано с риском. Он прослыл осторожным врачом, лишенным какого-либо медицинского тщеславия. И поэтому в известной мере презрительное недоверие к медицинским способностям Неболюбова со стороны Андросова было обоснованно.
Трудно точно сказать, пошел ли Неболюбов работать в первую советскую больницу только из признательности к народной власти за то, что она восстановила дом Общества содействия физическому развитию, или, может быть, им руководило нечто другое. Возможно, он хотел попытаться перебороть столь тяготившую его долгие годы боязнь вмешиваться в те случаи, когда жизнь человека висит на волоске, то есть пойти против себя такого, каким он был многие годы.
Петр Григорьевич Сапожков знал о неприязни, какую испытывает Андросов к Неболюбову. Все его попытки сблизить этих двух людей были безуспешны.
Да и оба врача не хотели откровенничать с фельдшером. Достаточно и того, что они мирились с его комиссарством над ними… Они почти с одинаковой категоричностью требовали от комиссара только медикаментов, инструментария, не желая считаться ни с какими трудностями.
Как-то из губернии привезли пакеты с вакцинами, и несмотря на то что доставившие их красногвардейцы утверждали, что всю дорогу, оберегая, держали пакеты под полушубками, врачи отнеслись к их словам с недоверием и заявили, что без длительной проверки на морских свинках и кроликах пользоваться вакцинами нельзя. Но кроликов, а тем более морских свинок в городе не было.
Сапожков после длительных поисков вернулся ни с чем. Не видя иного выхода, сделал сам себе несколько прививок, успокаивая себя тем, что среди красногвардейцев был один член партии, который не мог солгать и признался бы, если бы медикаменты промерзли в пути.
К вечеру у Сапожкова поднялась температура. Всю ночь он провалялся в жару. Утром, бледный, истомленный, пришел во врачебный кабинет и заявил докторам, что вакцины вполне пригодны, а высокая температура вызвана тем, что организм его был ослаблен, так как в последние дни в силу крайней занятости он, попросту говоря, не обедал, а только ужинал холодной пшенной кашей, что для его организма, очевидно, недостаточно.
Когда Сапожков при общем равнодушном молчании ушел из кабинета, Л яликов произнес громко:
— За этот подвиг наш комиссар, вероятно, рассчитывал получить памятник не на кладбище, а на площади.