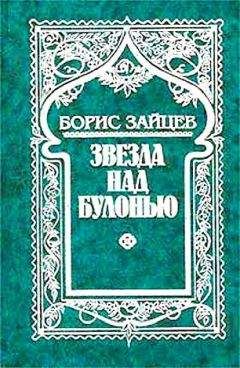Борис Зайцев - Том 3. Звезда над Булонью
Микель-Анджело изображает эпос, но и драму мира. Он не закончил своего цикла. В том виде, как он дошел до нас, цикл останавливается на Потопе. Получается так, что Бог создал человека, человек грешит, его карают. Что же дальше? Спасение и искупление здесь не написаны. Ветхозаветное, великое и грозное выражено могущественно. Точно бы образ Иеговы ближе художнику, чем лик Христа. Вне связи с циклом, в дальней, узкой стороне капеллы, над алтарем изображен Страшный Суд. Там есть Христос. Но и там – хаос и смятение летящих тел, и там трагедия и наказание на первом месте; а Христос сам – могучий атлет; в нем совсем нет сияния и прозрачности, тишины Евангельского Христа.
Микель-Анджело, будучи христианином, и могучей личностью, быль во многом человеком гнева; столь богата его натура, что в других вещах (Pieta, уже помянутая) выражал он нежность (как и в «Раненом Вакхе», во Флоренции), и светлое любование милым телом; выразил глубокую задумчивость, печаль, величие в лучшем творении своем – гробнице Медичи в Новой Сакристии Сан-Лоренцо; но в Сикстинской – он судия бестрепетный. Он знал и любил Данте; дантовская суровость близка его духу, и от Страшного Суда определенно веет «Адом».
В жизни Микель-Анджело мало кого любил («и Бог меня убей, мессер Микельаньоло, если вы о ком-нибудь отозвались хорошо» – из письма к нему одного строителя). Нам известно, что очень он не любил Рафаэля. И если бы мы этого не знали, то достаточно представить их обоих ясно, чтобы увидеть как, и только как мог относиться «мессер Микельаньоло» к «божественному» Рафаэлю.
И в жизни и в художестве Рафаэль обладал даром очарования. Этим походил он на загадочного певца, и пророка древности, Орфея. В его наружности, и обращении, как и в его кисти заключался некоторый талисман, привораживающая сила. Как и Орфея, его уважали даже животные, и никогда не трогали собаки. В жизни все давалось ему легко. Слава, богатство, расположение и любовь пап, кардиналов – то, над чем мучительно трудился бы другой, приходило само, покорное зову его обольщения. Это обольщение не было колдовским, или магическим: оно имело характер светлоблагостный. Его жизнь, и его искусство было песней к Богу, песнею, радовавшейся о мире, далекой от трагизма и отчаяния; Бог тоже возлюбил его, и рано взял к себе.
Памятник Рафаэля в Ватикане – так называемые Станцы. Из них главнейшая, давняя соперница Сикстинской – станца della Segnatura[188]: это комната в папских покоях, где раньше помещалась личная библиотека Юлия II, а затем там прикладывались печати к папским breve. Рафаэль в этой светлой, тихой комнате, выложенной мозаикой, отделанной роскошными панелями, написал три фрески – «Афинскую школу», «Парнас» и «Disputa». Хотя «Disputa» значит как будто «спор», «диспут», но ее назвать правильнее «Триумф церкви». Никакой борьбы, напряжения нет. В небесах восседает Бог Отец, Христос, Мария Дева и Иоанн Креститель среди Учеников и Евангелистов. Снизу же Собор пап, епископов, учителей церкви, размышляя о догматах и обсуждая их, устремляется душою ввысь к их Истоку. В «Парнасе» Аполлон, на холме, под лаврами издает смычком божественные звуки, поэты же и поэтессы окружают его, слушают, и нежный отблеск зари золотит их. И наконец в «Афинской школе» в фантастическом, легко-гигантском храме Ап. Петр и Павел как бы объявляют истину Собору мудрецов языческих. Здесь также нету речи о борьбе, о споре. Все покойно, ясно, дух великой гармонии все проникает: и величественно шествующих Апостолов, и дальнюю, божественную перспективу храма, и мудрецов, размышляющих на переднем плане. Во всех трех фресках Бог открыто или скрыто наполняет все собою – будет ли то Бог Отец «Disputa», или языческий Аполлон, или само Веяние Господа, как в «Афинской школе». Это Бог света и мира. Ему некого и не за что карать, не на кого гневаться, ибо и так все Ему послушно; все полно к нему благоговения и радости; Он проходит в легком Ветерке мудрости, поэзии и музыки. Все Он уравновешивает; всему дает стройность и прозрачность. Мир Ему мил, Он и не думает о дьявольском. Кажется, Рафаэлю был чужд дантовский Ад, средневековые ужасы, химеры готики. Его корни – христианство и античность, особенно античность, платонизм; но и любовь к земной прелести, просветленная христианством.
Для такого духа как «мессер Микельаньоло» весь, Рафаэль и его фрески, вероятно, были слишком «примиренными». Ему чужда была женственная нежность и мягкость этого юноши, его гармония и стройность. Может быть, если бы он жил сейчас, то сказал бы о Рафаэле: «приятный художник» – и презрительно бы отвернулся. Прав, конечно, он бы не был. Но диаметральность свою с ним подчеркнул бы твердо. В те же времена мрачный Микель-Анджело с переломленным носом, испачканный красками, одичалый, одинокий, безмерно могучий и грозный в замкнутости своей, не мог не ненавидеть блистательного Орфея, одно прикосновение которого к струнам вызывало звуки нежные и обольщающие.
Судьбе угодно было, чтобы они оба отдали себя Ватикану, и навсегда остались в нем соперниками непобежденными, каждый в своем, неразрывно связанные под эгидой папства.
Вилла МадамаПамять о Рафаэле осталась в Риме и помимо Ватикана. В S. Maria della Расе, и капелле Киджи, он изобразил Сивилл; по заказу того же Киджи, с помощью учеников расписал Фарнезину; наконец, на холме, за Римом, выстроил кардиналу, Джулио Медичи, будущему папе Клименту, виллу.
В один из вечеров осенних мы туда отправились.
Перейдя Ponte Molle, на Фламиниевой дороге, идущей от Piazza del Popolo, взяли налево, берегом Тибра, аллеей платанов, потом медленно стали подыматься на Monte Mario. Сиреневело в воздухе, легкой дымкою Рим затянут; недалеко уже сумерки. Надо бы поспешать, но как раз мы запутались в дорожках по огородам. Подошли к домику огородника, спросили. Старичок, возившийся с лопатой в зеленом своем царствии, длинно и учтиво объяснил, и провел прямиком, через какую-то калитку.
Помню широкий, овальный подъезд к вилле, бассейн с плавающими листьями; вход во второй этаж; огромные, пустынные залы, совсем заброшенные; впечатление одичалости, разрушения. В одной из зал какой-то хлам в углу валялся. Кучи мусора. Позже, когда стемнеет, летучие мыши, наверно, залетят в эту руину.
Но и теперь, в своей запущенности, как внутренно светла, стройна, обильна воздухом и легкостью эта вилла! Два ученика, помощники Рафаэля, трудились тут – Джулио Романо и Джиованни да Удине. Они расписывали стены фресками, тянули фризы богатейшие, наполнили деревенский дом красками яркими и радостными, дыханием природы, света, милого произрастания. На фризах все цветы, и фрукты, птицы; все живет, все преизбыточно, само в себе не умещается, и говорит о прелести природы; о прелестном солнце, об Италии, светлом воздухе, неизбытных мощных соках жизни. Сквозь тленность временного вилла Madama говорит о золотом веке явственнее, чем прославленная Фарнезина. Здесь хотелось бы жить. Здесь само чувство жизни светлее, воздушнее нашего; и невольная зависть берет – позавидуешь тем, кто так чувствовал, и так жил.
Дух Рафаэля властвует над виллой. Но слова его сказаны учениками более по-земному, нежели говорил он сам. Он возносился к платонизму, христианству, был творцом легких, гармонически-стройных композиций, но несколько надземных; наряду с глубоким жизненным корнем у него было обобщение, полет, ясное реяние духа. Он – велик; ученики – милы. Но Джиованни да Удине искренне любил своих животных, и свои плоды, цветы; он был ближе к жизни обычной, и, быть может, характерней отразил ту радость бытия, легкость земной поступи, какою обладали люди Возрождения. И он, и Джулио Романо ближе к среде, родившей их, чем сам Рафаэль, возвышавшийся над нею. Потому их творчество так характерно, так дает couleur locale[189] своего времени.
С огромной лоджии виллы Madama виден Рим. Нежно-сиреневая дымка сумерек затягивает его. И темней пятна парков Боргезе, дальние кипарисы Палатина. Плавно круглится купол Пантеона – Рим неяркого вечера, покойный, с первым золотистым огоньком над мутным Тибром. Пора домой. Через заброшенные сады вновь спускаемся к Тибру, а вилла Мадама, если обернуться, глядит глазастым своим, ветхим деньми, но внутренне живым и светлым обликом.
У Тибра, в скромной остерии под платанами, рядом с усталыми возчиками и простым римским людом, утомленные путники спросят фиаску вина, vino dei Castelli Romani. В сиреневом вечере будут слушать кудахтанье кур, громыханье проезжающих повозок, крик осла. Рим затянется мглой, дымно-сизой вуалью. Ярче заблестят его огни. Темней станут ближние платаны. Возчики разъедутся.
Путь наш лежит длинною via di Porta Angelica мимо казарм к Ponte Margherita.
Римские вечераВечер Риму идет. Захватил ли он вас на мосту через Тибр, когда пепельно розовеет закат над Ватиканом, а в кофейных волнах, быстрых струях, ломаются золотые отражения фонарей; или на Монте Пинчио, вечер краснеющий, с синею мглой в глубине улиц; или у Капитолия, тихий и облачный, когда стоишь над Форумом, в глуби чернеют кипарисы, Арка Тита, даль за ней смутно-фиолетовая да несколько золотых огоньков – всегда это очень сливается с Римом, всегда ощущаешь – вот это и есть стихия его, задумчиво-загадочная. Это она поглощает пестроту, шумность дня, выводит душу ночную; освобождает те великие меланхолии, которыми Рим полон. В сумерках грандиозней, молчаливей Колизей; ярче блестят глаза одичалых кошек на Форуме Траяна; величественней шум фонтана Треви, неумолчно говорящего о проходимости.