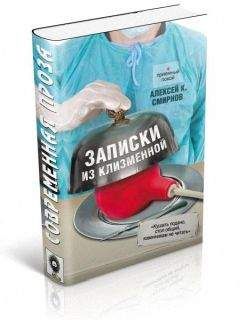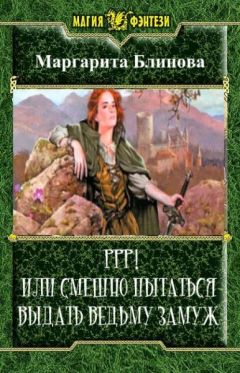Инна Кинзбурская - Один год в Израиле
-- Здесь сидеть нельзя, здесь частное владение, -- непреклонно и твердо заявил он.
И тут из домика вышла немолодая женщина и вынесла кружку воды. Вода была холодная, кисловатая от лимонного сока и искрилась пузырьками газа. Кружка воды казалась чудом в этот знойный день, но еще чудесней было доброе лицо женщины, принесшей напиток.
Потом вышел мужчина, тоже немолодой, но поджарый и, видно, не слабый. Постоял немного, наблюдая, как муж справляется с работой, понятно, непривычной для него, по всему видно -- не из косарей.
Не знаю, что он думал тогда, в первый раз, оценивая работу. Наверное, видел, что человек перед ним не хилый, крепкий, что, хоть и нелегко, старается и не халтурит. Если бы понял, что косарь хлипок и ему себя жаль, возможно, не подошел бы, не заговорил, а может, и подошел бы, но только, чтобы помочь. А тут -- заговорил, да еще с шуткой, простой почти деревенской шуткой. Они поговорили, как два соперничающих мужика. Сколько тебе лет? А мне вон сколько! А какой ты молодой? Вот я -- молодой. Посмотри, как я работаю. А какие мускулы? А руки? Ну-ка, чья рука крепче?
Говорили они на смеси языков украинского, иврита, идиш. У одного -хороший украинский, а иврит -- увы! У другого иврит хорош, а украинский давно забыт, с трудом вспоминается. И идиш оба почти не знают. Но выручил язык жестов. Он до сих пор нас выручает.
Попрощались -- заходи, буду рад.
Муж вспомнил об этом, когда, собираясь уйти от Ципоры, мы искали квартиру.
-- Зайдем, может, помогут. Они старожилы, многих знают.
Мы зашли сразу после обеда, еще не зная местных законов о неприкосновенности двух послеобеденных часов. Потом мы узнали, что Абрам и Хана не всегда в это время отдыхают, но в тот раз, видно, утомившись, прикорнули. На наш стук вышел Абрам, еще полусонный, остановился на пороге, рассматривал нас, словно припоминая, кто мы, и не понимал, что нам от него нужно.
Он вяло стоял на пороге своего дома, невысокий, с неприбранными после сна редкими седыми волосами, в распахнутой рубашке, а светлые чуть прищуренные глаза его смотрели на нас оценивающе. Вообще-то, когда тебя оценивают, не очень приятно, но мы почему-то не испытывали этого чувства, возможно потому, что вся процедура длилась недолго. Хозяин так же, как стоял, не выражая никаких эмоций, спокойно посторонился, давая дорогу -- заходите. Но тут на пороге появилась Хана и все обволокла добротой и приветливостью.
Потом мы сидели в их доме, рассказывали друг другу о себе. В ход был пущен наш еще очень плохой иврит, забытый Абрамом украинский, руки, пальцы, телодвижения. Мы понимали друг друга. Квартиру мы подыскали без них, но в них нашли близких людей. Как-то сразу и без оговорок.
Они старались нам помочь, чем могли, и делали это ненавязчиво, часто с шуткой. Абраму нравилось, что муж за все берется, умеет не умеет -- берется. И Абрам никогда не забывал похвалить мужа. Мы делали ремонт в нашей съемной квартире, Абрам давал советы, какую покупать краску, шпаклевку, инструмент. Он предлагал свои услуги в работе, но не был огорчен, что мы отказались и стали делать все сами.
-- Лучше, когда человек не может, но хочет, чем может, но не хочет, -высказал он свое кредо.
-- А еще лучше, когда и может и хочет...
-- Верно.
Мы покрасили первую комнату, сделано было неплохо, но и не Бог весть, как хорошо. Абрам пришел, походил по комнате, прищурив свои светлые глаза, изображая придирчивый осмотр работы, потрогал углы и выразил удовлетворение:
-- Мастер -- первый класс, -- сказал он на ломаном украинском и похлопал мужа по плечу, подняв для этого руку. Он был ниже ростом, но -- старший.
"Мастер -- первый класс" -- говорит он мужу всякий раз, осматривая сделанную работу. Приходилось ремонтировать краны, прочищать канализацию, ставить новые розетки. Абрам все трогал руками, проверял, высказывал одоб? рение. Он не обращал внимания на мои слова о том, что муж и в Союзе все это делал сам. Абраму нравилось, что человек берется за всякую работу, хоть и ученый.
Зато своей работой Абрам никогда не выхваляется. Он принес мне в подарок маленький складной столик, за которым я и сейчас работаю. Столик этот не Бог весть какой нарядный, но прочный и легкий, а главное, он очень удобен в нашей тесной квартире, где ни для чего нет места. Столик можно сдвинуть, а то и вовсе сложить и убрать, когда приходят гости. Этот столик был мне, как подарок судьбы, мы искали в магазинах хоть что-нибудь подходящее, но все было не так удобно и стоило кучу денег. Абрам принес столик, разложил и спросил небрежно:
-- Ну, ничего? Подходит?
И чтоб избежать благодарности и похвалы, стал рукой разглаживать еле заметную неровность.
-- Еврейская работа...
Вообще мне нравится его ирония, его понимание шутки. И умение шутить. Наверное, если бы мы могли свободно говорить на одном с ним языке, было бы еще интереснее. Его манера шутить напоминает мне юмор моих интеллектуальных друзей из страны исхода.
Мы рассказываем ему и Хане, как из аэропорта Бен-Гурион звонили знакомым, не знали, что делать, куда ехать.
-- Почему не позвонил мне? -- спрашивает он мужа, смеясь только глазами.
Мы хотели навестить их, но не застали, идем от их дома, на углу улицы встречаем Абрама и Хану.
-- Были у нас? -- спрашивает он, прищурив свои светлые глаза. -- Ну и как, не знаете, мы дома?
-- Я тоже был красивый мальчик, -- сказал он как-то, когда я восхитилась соседским ребенком. -- Мама даже завязывала мне на руке красную нитку -- от сглаза. Не веришь? -- смеется он. -- Теперь я не такой красивый? Уже не надо завязывать красную нитку?
Он много знает, ему все интересно, он в курсе всех политических событий, немного читает газеты, но больше смотрит телевизор. У него есть своя любимая программа -- "Новости" в половине восьмого вечера, ему нравится ведущая программы. Где бы он ни был, торопится домой:
-- Там ждет меня моя девушка.
Но говорить подолгу о политике Абрам не любит, оно того не стоит. Спорят себе сильные мира сего, а в стране тяжело. Зато всегда спрашивает у мужа о разных вещах из истории, о народах, их судьбах, слушает с интересом, готов слушать долго. К сожалению, у нас не хватает иврита, и муж, рассказывая о чем-то, быстро переходит на язык пальцев. Тут уже становится неинтересно. На том и кончаем, откладывая до лучших времен, когда мы заговорим на иврите вовсю.
Как-то они зашли к нам, я накрываю стол -- все, что есть, мне хочется угостить их получше. Но Абрам говорит:
-- Зачем столько? Нет места, -- и похлопывает себя по животу. -- То, что ты наставила, хватит на неделю. Он худощав, ест мало.
-- Когда были молодые, -- вспоминает он, -- так хотелось есть, но не было денег. Теперь есть деньги, но нужна диета.
Нет, он не болен, он энергичен, подвижен, но понимает, что в его возрасте много кушать уже вредно. Зачем же делать себе во вред? Он относится к этому спокойно. Раньше было хуже, когда хотелось есть, а купить было не на что.
-- У тебя нет работы, -- говорит Абрам моему мужу. -- У меня тоже не было. Я тоже был оле хадаш. Хана работала, шила. Ходила на работу далеко, за пятнадцать километров. Каждый день. Пешком. Что делать? Жить-то надо было.
Она любила читать и рисовать. Когда-то, до войны. Мечтала учиться и стать художником-модельером. Но ее не приняли: в Венгрии тоже не любили евреев. Но шить она научилась, и это спасло их в Израиле. Она ходила по богатым домам, обшивала. И до сих пор шьет понемногу.
-- У нас не было съемной квартиры, нам не давали денег. Жили в сарае, пришлось его самому построить. Сарайчик был маленький, тут спали, тут же керосинка. Хана варила еду и до двенадцати часов каждый день шила -- при керосиновой лампе.
Мне нравится, что они не ноют, не плачут, не жалуются, от других старожилов я слышала много стонов по поводу старых времен. "Что делать? -говорят Абрам и Хана. -- Время было такое". Они не завидуют нынешним олимам, тому, что нам дают немного денег на прожитье. Понятно -- теперь время другое. Понимают, что и нам не сладко совсем, хоть и заботятся о нас больше, чем заботились о них. И, может, потому что они так хорошо все понимают, мне ста? новится неловко оттого, что я, в самом деле, ничего не вложила в эту страну, что не приехала сюда раньше. Действительно, почему я не приехала?
Когда они начинали здесь с нуля? В конце сороковых? Что делала я в эти годы?
Мы тоже не сытно ели, мы даже голодали, был страшный голод. Потом стало немного легче. Но мы были очень молоды, учились, ходили на лекции, вечера поэзии и диспуты. Мы верили в коммунизм и учились, чтобы его строить. Среди моих друзей было много евреев. В самом деле, почему мы строили там, а не тут? Кто повинен в том, что нас разбросало по вселенной? Там, где мы жили, и приходилось работать. Ни у кого в то время не была легкой жизнь.
Евреи собираются здесь, у нас есть, у нас должна быть своя страна.
...Абраму тоже иногда перепадала работа, совсем, как теперь олимам: чтонибудь починить, подрезать кусты. Как семейную реликвию хранят они эту историю.