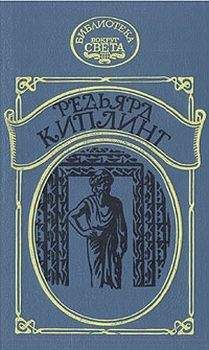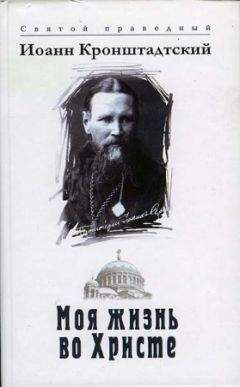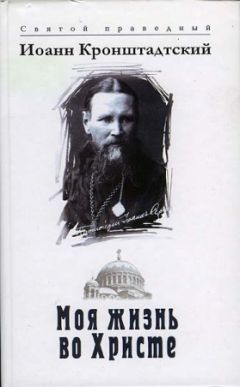Юсиф Самедоглы - День казни
- А вот это он правильно делает, клянусь головой!
Махмуд долил себе в стакан чаю из заварного чайника, взял из сахарницы кусочек колотого сахара, положил в рот и с таким хрустом разгрыз его, что больного мороз по коже подрал.
- Уж поверь мне, сестра, у меня есть опыт в таких делах. В наших краях профессоров нету, один я мотаюсь по селам, больных надзираю... Так вот, я говорю тебе - нет ничего хуже лекарств, как можно меньше пейте вы их, а еще лучше - вовсе не пейте.
- Так-то оно так, да ведь и без лекарств нельзя, - подавленно сказала Замина.
- Почему это нельзя? Очень даже можно! Ты ему маслица, сливок свежих давай побольше. Нажарь ему курдючного жира, пусть ест, заливает легкие жиром. И если он за десять дней не встанет на ноги, то я самый безмозглый человек на свете!
Больной заулыбался своей чуть насмешливой улыбкой. Махмуд, глядя на его желтые зубы и резкую сетку морщин вокруг глаз, подавил вздох. Совсем постарел, а какие его годы? - подумал он. А больного позабавил рецепт сельского фельдшера: свежее масло, свежие сливки, свежая убоина, курдючный жир - где их в городе взять? И ведь все его деревенские родичи совершенно уверены в том, что он как сыр в масле катается, а уж если захворал, то вокруг него, как вокруг светила, день и ночь кружат, думают, чем бы угодить. Весьма распространенное заблуждение сельчан относительно любого родственника, добившегося в городе какого-то имени и положения.
Замина взяла пустой чайник и пошла на кухню, заварить свежего чаю. Оставшись вдвоем в комнате, больной и Махмуд, как если бы они давно и со страхом ждали этого момента, посмотрели друг другу в глаза и одновременно подумали о чем-то очень важном. У обоих у них заиграла грустная улыбка, они вроде как застеснялись друг друга. Отчаянная жалость к больному охватила Махмуда, он смеялся, шутил, рассказывал байки, но не обманывался, нет, он видел, что родственник его болен, что болезнь у него нешуточная, а, возможно, и смертельная, что надо бить тревогу, поднимать всех на ноги, надо помочь ему вырваться из капкана проклятой болезни. Но как? Знать бы еще как помочь? Ничего этого Махмуд, понятное дело, не мог сказать ни больному, ни его жене. Об этом не говорят, нет, а просто терпеливо ждут, ухватившись, как за соломинку, за хвост надежды и уповая на милость судьбы. Всякий раз, убедившись в необратимости хода вещей и невозможности вмешаться и что-то изменить, Махмуд впадал в полнейшую растерянность. Что делать? Куда идти? Кого просить о помощи? Из сокровенных глубин его существа рвался извечный крик, сверлящий мозг и сердце, все- клетки его тела, уничтожающий разум и волю. "Господи, помоги!" Но сколько раз уж он убеждался: бог ни разу еще не расслышал последнего крика о помощи. Иногда Махмуду казалось, что у бога глаза видят и сердце чувствует, а уши - не слышат. Бог - глухой. Если бы он слышал, мир избавился бы от миллионов бед.
А больной потому застеснялся Махмуда, потому так виновато отвел глаза, что ему предстояло сейчас соврать Махмуду, сочинить какой-нибудь повод, чтобы попросить взаймы денег. Потому, что в доме осталось всего двадцать четыре рубля, а до денег, которые выдавали по больничному листу, оставалось еще пять дней. И больной, принужденно улыбаясь, сказал беспечным голосом:
- Понимаешь, какая штука. Махмуд? Деньги на моей сберкнижке, жена не может получить... Нет ли у тебя при себе немного?.. - Больной поперхнулся, голос его сорвался на щенячий взвизг.
Махмуд посмотрел почти испуганно, выпрямился, полез в задний карман и вытащил тонкую пачку денег, отделил две двадцатипятирублевки, положил их обратно, остальное засунул больному под подушку.
- Пятьсот рублей, дорогой. Хватит? - спросил он с несмелой радостью.
- Много! - не веря ушам своим, ответил больной.
- Много? - озадаченно спросил Махмуд. - Это пять сотенных-то?
Больной ощутил влагу на своих глазах, и от Махмуда это не укрылось.
- Что, дорогой? - спросил он тревожно. - Больно тебе?
- Немного... сейчас пройдет, - смущенно ответил больной. - Как поднимусь со своего одра, так возьму с книжки и вышлю тебе. - И сделал попытку пошутить: - Ну, а если что, если вдруг концы отдам, тебе жена вернет!
- Что ты, что ты, бог с тобой, не говори ты таких слов. Ты меня послушай, я тебе вот что скажу - ты весь в дядю Зульфугара, и жить будешь, как он, девяносто лет. Помереть мне, если вру!... - Махмуд шлепнул себя по лицу, потом подвинулся вместе со стулом поближе к больному и сказал Замине, которая как раз входила в комнату со свежезавареяным чаем в чайнике.
- Слушай, Замина, ты не оставляй его, не давай ему думать. У этих интеллигентов, знаешь, ум за разум иногда заходит! - и он так расхохотался, что, кажется, комната ходуном заходила.
Уезжая, Махмуд крепко расцеловал больного в обе щеки, дал несколько советов Замине насчет питания больного, сказал о целебных свойствах румеска и других привезенных им трав, поцеловал обоих в лоб и, пожелав всей семье благополучия до скончания века, вышел. У него билет на ночной поезд, а до вечера еще два-три дельца в городе, сказал он. Уже с порога он пообещал приехать через месяц и привезти всяких вкусных вещей. И был таков.
Больной и жена повздыхали ему вслед, даже расстроились немножко: за три часа, что Махмуд провел у постели больного, в комнате словно бы переменилось все - и свет, и воздух, и настроение... Влетел, как ветер, и подарил дому простую радость, сердечную приязнь... Здорово это у него получалось.
- Он сунул мне что-то под подушку, взгляни-ка.
Жена достала из-под подушки деньги, сосчитала их, молча шевеля губами, и сказала, хлопая ресницами:
- Пятьсот рублей... Он, что же, положил и ничего не сказал?
- Ты что, Махмуда не знаешь?! Даже рта не дал мне раскрыть.
- Ладно, вернем постепенно. Больной покачал головой.
- Ни за что не возьмет он этих денег назад. Уж лучше подарок ему сделаем, костюм какой-нибудь дорогой купим. Вот встану, бог даст, и тогда...
В глазах жены светилась радость, давно забытое беспечное веселье, и это чудо, подумал больной, сотворили оставленные Махмудом деньги. Этих денег с лихвой хватит на полтора-два месяца жизни семье, и полтора-два месяца они с женой не будут смотреть друг на друга с безмолвным вопросом, в напряженном и бесплодном ожидании. Полтора-два месяца...
Скопец Энвер поддел маленькими щипцами тлеющий опиум, положил его в чашечку кальяна, глубоко затянулся, прикрыл глаза, задержал во рту дым и осторожно выпустил его сквозь толстые, красные губы и тонкие ноздри плоского носа. Опиум снял тяжесть в набухших веках, растекся теплым туманом в голове и ватной вялостью отдался в ногах. Скопец Энвер маялся ногами, боль и колотье в пальцах с гниющими ногтями и голубоватыми вздувшимися венами поднималась до икр и выше, до налитых жидкостью, распухших колен.
По вечерам, когда наступала прохлада, когда все живое в мире отправлялось на покой, эта боль достигала дьявольской силы, она стискивала все его немощное тело до самого подбородка и заволакивала слезящиеся глаза черным туманом. Ни псу, ни шакалу не послал вседержитель эту злую боль, он отметил этой болью его, скопца Энвера, раз и навсегда записал ему на роду и повелел носить ее в своем бренном теле до последнего дыхания, до смертного часа, пока душа не покинет тело, носить и славить творца, что не сделал его слепой тварью или еще чем похуже. Сегодня телесная боль была совершенно нестерпимой, и скопец Энвер достал из серебряного ларчика еще одну щепотку опия, чтобы одурманить себя и, с божьей помощью, хоть так усыпить боль. Немного погодя, когда в лагере разожгут костры, он отправится в шатер повелителя, и надо, чтобы к тому времени его отпустила эта свирепая боль, от которой у него мутится в голове.
Стало известно, что из крепости, которую государь собирался взять приступом, прибыли перебежчики - два придворных поэта - и принесли очень важные военные сведения. И что один из презренных сарбазов, которых от страха перед повелителем прохватывал понос, так вот один из этих ничтожных пролил кровь своего родного брата из-за девушки-иноверки. Разумеется, повелитель прикажет нынче же изрубить его на мелкие части величиной с его ухо; давеча, возвращаясь в свой шатер, он видел палача в торжественном красном одеянии. Стало быть, до полуночи не будет никому ни сна, ни покоя, до полуночи будет стоять скопец Энвер пред светлыми очами государя и, терпеть адские боли... "О, всемилостивый, сжалься над рабом своим!.. Славлю день, что дал ты нам!.."
Большая, величиной с крупную бусину, щепотка крепчайшего индийского опия скоро подействовала расслабляющим образом: голова скопца Энвера медленно затуманилась, мышцы обмякли, главное же, блаженно немели ноги, избавляясь от грызущей и ноющей боли. Государь никому не разрешал курить опий перед выступлением в поход, и запрет этот был свят, как и клятва на коране для всех, от сарбаза до военачальника. Потому что в наступлении нужны были крепкие, как железо, мускулы и ясные головы. Но запрет не касался скопца Энвера. Ибо государь знал, что болезнь скопца Энвера поддается только опию, и обойтись без него никак невозможно. Запрети он курить скопцу Энверу, тот мог бы умереть от боли в любой час дня или ночи, а великий государь великого государства был сердечно привязан к своему верному слуге, ему даже думалось иногда, что на всей земле он любит одного скопца Энвера и верит ему одному. Ни в ком, кроме него, государь не видел такой беззаветной, такой собачьей преданности.