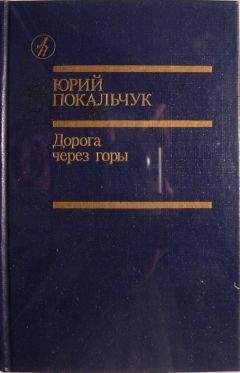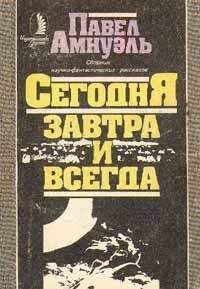Зинаида Гиппиус - Том 2. Сумерки духа
1901
Любовь к недостойной
Ах! Я одной прекрасной дамы
Был долго ревностным пажом,
Был ей угоден… Но когда мы
Шли в парк душистый с ней вдвоем
Я шел весь бледный, спотыкался,
Слова я слышал, как сквозь сон,
Мой взор с земли не подымался…
Я был безумен… был влюблен…
И я надеялся… Нередко
Я от людей слыхал о том,
Что даже злостная кокетка
Бывает ласкова – с пажом.
Моя ж мадонна – молчалива,
Скромна, прелестна и грустна,
Ни дать ни взять – немая ива,
Что над водами склонена.
О, ей – клянусь! – я был бы верен!
Какие б прожили мы дни!..
И вот, однажды, в час вечерен,
Мы с ней у озера, – одни.
Длинны, длинны ее одежды,
Во взгляде – нежная печаль…
Я воскресил мои надежды, –
Я всё скажу! Ей будет жаль…
Она твоим внимает пеням,
Лови мгновения, лови!..
Я пел, склонясь к ее коленям,
И лютня пела о любви.
Туман на озеро ложится,
Луна над озером блестит,
Всё живо… Всё со мной томится…
Мы ждем… Я жду… Она молчит.
Туман качается, белея,
Влюбленный стонет коростель…
Я ждать устал, я стал смелее
И к ней: «Мадонна! Неужель
Не стоит робкий паж привета?
Ужель удел его – страдать?
Мадонна, жажду я ответа,
Я жажду ваши мысли знать».
Она взглянула… Боже, Боже!
И говорит, как в полусне:
«Знать хочешь мысли? Отчего же!
Я объясню их. Вот оне:
Решала я… – вопрос огромен!
(Я шла логическим путем),
Решала: нумен и феномен
В соотношении – каком?
И всё ль единого порядка –
Деизм, теизм и пантеизм?
Рациональная подкладка
Так ослабляет мистицизм!
Создать теорию – не шутка,
Хотя б какой-нибудь отдел…
Ты мне мешал слегка, малютка;
Ты что? смеялся? или пел?»
. . . . . . . . . . . . . . .
Мрачись, закройся, месяц юный!
Умолкни, лживый коростель!
Пресекнись, голос! Рвитесь, струны!
Засохни, томный розанель!
И ссохлось всё, и посерело,
Застыл испуганный туман.
Она – сидела как сидела,
И я сидел – как истукан.
То час был – верьте иль не верьте, –
Угрюмей всяких похорон…
Бегите, юноши, как смерти,
Философических мадонн!
1902
Обе
За гранью смерти ее я встречу,
Ее, единую, ее, любимую.
И ей, как в детстве, на зов отвечу
С любовью первою, – неисцелимою.
Ее ли сердцем не угадаю?
В ней жизнь последняя и бесконечная.
Сквозь облик милый – тебя узнаю,
Тебя, Заступница, тебя, Предвечная…
Песня о голоде
(1904 г., посв. А. Блоку)
Хата моя черная, убогая,
В печке-то темно да холодно,
На столе-то хлеба ни корочки,
В углах и тараканы померли.
Хозяйка моя – молчит, молчит.
Соседи мои – немудреные,
Соседи мякину лопают.
Животы-то у них бурчат, ворчат,
А они ничего – радуются.
А были соседи – да померли,
Лежат, ничего, погоста ждут,
Лежат себе – не схоронены.
Кто жив – глядишь, издевается:
«Чего, дурак, мякины не жрешь?
Небось, подыхал, так наелся бы».
А не лезет в меня мякина-то,
Нету моего согласия,
Чистой смертыньки пойду искать,
От соседей уйду, от хозяюшки,
Один на один умирать пойду.
Над колодцем месяц серебряный,
За вербой заря кровавая,
Под зарей, внизу, поле черное.
Пойду я да лягу на поле,
Буду в небо глядеть, алое и белое,
Так и умру с ним один на один,
Умру на земле – от голода…
К Добролюбову
Нет отреченья в отреченьи,
От вечных дум исхода нет.
Ты видишь свет и мрак в смешеньи.
В тебе раздельны мрак и свет.
И за полями, за горами,
Где меркнет жизнь и след людской,
Ты узришь жадными очами,
Что кинул здесь в семье родной.
В пустыне нет уединенья,
Повсюду жизнь, повсюду Бог.
Лишь сердцу, сердцу нет смиренья, –
От жизни в жизни – нет дорог.
Приложение
Е. Лундберг. Поэзия З. Н. Гиппиус*
Noch wenig Zeiten,
So bin ich los,
Und liege trunkcn
Der Lieb' in Schoss.
Ich fuhic des Todes Verjungende Flut,
Zu Balsam und Ather
Verwandelt mcin Blut.
Ich lebe bei Tagc
Voll Glaubcn und Mut,
Und sterbc die Nachte
In heiliger Glut.
Novalis[48]Стихотворений у З. Гиппиус немного – всего две книжки. Тема их одна, легко определяемая благородными словами двух «посланий» – «великий грех желать возврата неясной веры детских дней» и «будет тем светлей душа моя, чем ваша огненней дорога». Первый томик стихотворений собирался в течение пятнадцати почти лет, по нескольку пьес в год. Очевидно, над поэзией Гиппиус тяготеют другие законы, чем над ее прозой. И форма и мысль здесь обусловлены строгой необходимостью, а не произволом. Прозу можно бы «сделать» и лучше и хуже, богаче вымыслом и беднее, а стихотворения пишутся так, как пишутся. Мерки для них нет. Прозу вызывает к жизни мысль Гиппиус, а стихотворения – не столько ее созданья, сколько знаки, что этой мыслью кто-то иной в Гиппиус живет, и она успевает лишь передать свои недоумения, радости и печали, вызванные движениями того, кто, как дитя в утробе матери, владеет ею. Его рост – ее радость. Его увядание – ее боль. Разница лишь в том, что дитя менее матери, а сила, владеющая творчеством поэтессы, более ее, ибо определяет творчество, сама же этим творчеством не определяется.
В своих стихах Гиппиус не притворяется знающей; мало убедительные «потому что», «надо» и «у нас есть сознание», обычные в ее статьях, забыты, ибо тот враг, с которым ей больше всего приходится бороться, неуязвим этим оружием. Враг этот – она сама, и его не свяжешь заклинаниями. Она движется не потому, что у нее есть цель, а потому, что она не может не двигаться. Ее грехи и слабость – то поле, которое нужно обработать. Хорошо помолиться перед работой, молитва дает твердость руке и ясность глазу – но не молитвой, а плугом, и тяжело упертыми руками, и склоненной головой отличается трудящийся от праздного. Ее грехи и слабость – камень, которого она не могла сбросить в начале пути и который научилась нести. Нельзя хотеть камня, и те, кто проповедует благость камней, лгут. Но можно перенести внимание с тяжести камня на те изменения, которые он произвел в походке, в стати, в дыхании и в мыслях. Изредка Гиппиус приостанавливает свою работу, чтобы спросить, куда ее ведут и кто с нею, чтобы рассказать спутникам, как ей бывает хорошо и как бывает трудно. Иногда она плачет и ищет слов для волнующих просьб – не столько об избавлении от себя самой, сколько об окончании заданного ей урока. У нее самой нет «ни воли, ни умелости», «ни ясности, ни знания, ни силы быть с людьми, ни твердости, ни нежности, ни бодрости в пути».
Господь, мои желания,
Желания прими.
Пока Гиппиус занята своим дневным уроком, она – истинный поэт. Когда же ударяет час итогов, изящество ее негромкого стиха сменяется прозаизмами.
Она не уверена, удастся ли слиться с Ним, с Сущим «в цепь одну, звено в звено» –
Значит, рано, не дано,
Значит, нам – не суждено,
Просияв Его огнем,
На земле воскреснут в Нем, –
и смиренно, и певуче, и пленяет тонкое мастерство этих «н» и «о», противопоставленных острот «просияв» и «воскреснуть». Но вот итоги труда – не религиозно-общественной пропаганды, и не литературного – а глубочайшего, ее труда, ее урока.
Три раза искушаема была Любовь моя.
И мужественно борется – сама Любовь, не я.
Вставало первым странное и тупо-злое тело.
Оно – слепорожденное – прозрений не хотело.
И яростно противилось и падало оно,
Но было волей светлою Любви озарено.
Потом душа бездумная – опять слепая сила –
Привычное презрение и холод возрастила.
Но волею горячею растоплен колкий лсд.
Пускай в оврагах холодно – черемуха цветет.
О дважды искушенная, дрожи пред третьим разом.
Встает мой ярко-огненный, мой беспощадный разум.
Ты разум человеческий, его огонь и тишь
Своей одною силою, Любовь, – не победишь.
Не победишь, живущая в едином сердце тленном,
Лишь в сердце человеческом, изменном и забвенном.
Но если ты нездешнего – иного сердца дочь –
Себя борьбою с разумом напрасно не порочь.
Земная ярость разума светла, но не бездонна.
Любовь, ты власти разума, как смерти, нсподклонна.
Но в третий час к Создавшему приникнув воззови, –
И сам придет защитником рожденной им Любви.
Все прозаизмы, скупость в красках и сухая отчетливость плана в этой вещи необходимы, как признаки сознательного подчинения души железным требованиям «веры». В шествии по ступеням совершенства нет ни радости, ни удовлетворения. Оно от начала до конца – принуждение, как принужденно связаны между собой строки «Третьего часа». И это неплохо. Так надо. Если бы в Гиппиус было хоть что-нибудь, что бы она решилась оставить нетронутым в своем походе за золотым руном богопознания, ее поэзия была бы легче и свободнее. Но ей приходится жестокими гвоздями сколачивать, перехватывать скрепами, соединяя в одно две противоположные силы, обычно разрывающие ее лирику на две очень неравные доли: проклятия себе и молитвы Вышнему. И таково чудо искусства – в «Третьем часе» эти силы не примирились, не уступили друг другу места и не слились. Они лишь уравновесились на час, под суровостью молота и скреп, вопреки действительной возможности, уравновесились так, что схема отдающего гностицизмом, очень мало христианского христианства стала казаться более реальной, чем вошедшие в нее элементы – правдивые записи борющего себя духа.