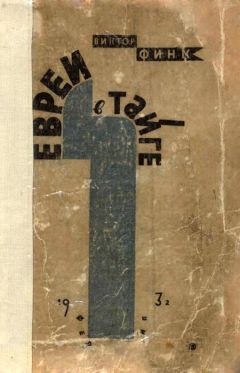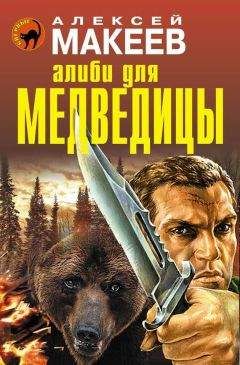Александр Грин - Фанданго (сборник)
Светало, когда в чайной, близ Парголова, за горячим чаем, свининой и ситным, мы несколько отошли. Но беспокойство гнало вперед. В Парголове было еще тихо, а от Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе представляло собой сплошную толпу. В ней мы постепенно растеряли друг друга. От Озерков я шел один. По дороге я видел: сожжение бумаг Ланского участка, – огромный, веселый костер, окруженный вооруженными студентами, рабочими и солдатами; обстрел нескольких домов с засевшими в них городовыми и мотоциклетчиками, шел сам, в трех местах, под пулями, но от усталости почти не замечал этого. Утро это, светлое, игривое солнцем, сохранило мне общий свой тон – возбужденный, опасный, как бы пьяный, словно на неком огромном пожаре. Железнодорожные мосты, с прячущейся под н[ими] толпой, осторожные пробеги под выстрелами пешеходов, прижимающихся к заборам; красноречиво резкие перекаты выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к осажденным домам; иногда – что-то вдали, – в пыли, в светлой перспективе шоссе, – не то свалка, не то расстрел полицейского – всего этого было слишком много для того, чтобы память связно восстановила каждый всплеск волн революционного потока. Пройдя гремящий по всем направлениям выстрелами Лесной, я увидел на Нижегородской улице, против Финляндского вокзала, нечто изумительное по силе впечатления: стройно идущий полк. Он шел под красными маленькими значками.
Около двенадцати дня я сел на диван в гостиной доброго знакомого, дожидаясь любезно предложенного мне стакана кофе. Кофе этот я пил во сне, так как не дождался его. Ткнувшись головой в стол, я уснул и проспал восемнадцать часов.
Случайный доход*
Я, право, не могу подобрать более деликатного выражения, чем заглавие этого рассказа. Матрос без места вынужден смотреть и нюхать везде, где пахнет добычей. Как я писал уже в одном из предыдущих рассказов, – хождение на пароходы обедать или «стрелять» ковригу хлеба, конечно, поддерживает падающие силы портового бродяги, однако этого мало: возникают мечты, цели; соблазны Дерибасовской, трактиры на Ришельевской манят юную душу и тревожат воображение.
Подливая масла в огонь, эхом звучат легенды. Кое-что я запомнил. Например, «дядька», самый старый житель карантинного бордингауза Р. С. П. и Т., некий прямой, как палка, хрыч, лет шестидесяти, – Иван Касьяныч (звали его просто Кастратыч), рассказывал об английских «фунтах». Если ему верить (а я верил, безусловно, всему, что хоть отчасти напоминало роман), то в парке по сию пору стоит дерево, к вершине которого привязан мешок с золотом. Оно шло почтой из Адена в Одессу. Почтальон был мрачен и пьян, товарищ его – лукав и жаден. Лукавый подбил мрачного вскрыть мешок и слимонить оттуда двести фунтов. После этого мрачный пошел покаялся и был посажен в тюрьму, а лукавый повесил краденое на дерево в парке, но не успел им попользоваться, так как, хотя и скрылся, но умер от холеры.
Довольно сказать, что мои поиски этого клада окончились фарсом: заметив вечером что-то белое на вершине одного тополя, я отважно влез и увидел запутавшийся бумажный змей.
Я жил бы да жил в бордингаузе, куда поместил меня в ожидании лучшего сострадательный бухгалтер пароходства, и, вероятно, пошел бы по прочной морской дороге, если бы не язык дядьки Кастратыча. Сначала в шутку, а затем серьезно, как все злокачественные сплетники, старик распространил по двору весть, что Хохлов– мой дядя. Что тут особенного? Ничего. Однако через несколько дней Хохлов вызвал меня и в присутствии своих сослуживцев грозно спросил:
– Послушай, какой я тебе дядя?
Я был в стыде, гневе, отчаянии. Напрасно я клялся и уверял, что я ни при чем; Хохлов, стуча кулаком, заявил, что Кастратыч не лжет, следовательно, лгу я и лгу дважды, так как выяснилось, что Кастратыч пошел и донес Хохлову, будто я сам уверяю всех, что Хохлов – мой дядька и потому мне покровительствует. Дело кончилось очной ставкой, взаимными попреками и бранью, в результате чего я оказался на улице.
До сих пор я не знал, что такое голод, но теперь я узнал его. Были на Карантинной балке матросские углы, норы, полуподвальчики, и я поселился в одном из таких мест за тридцать копеек в месяц, продав одеяло. Каждый день посещал я вновь прибывающие суда, но каждый раз извергали они меня, как рыбью кость, и я начал, наконец, стыдиться искать место, – так явно был я нежелателен. Скоро я мог только щелкать зубами, проходя мимо булочных. Иногда ночью сострадательная рука вахтенного протягивала мне с какого-то судна целый хлеб, но этого хватало на день – только.
Видя, что дело плохо, я стал бродить по порту, присматривая, где что плохо лежит.
Раз выгрузили ящики с пустой водочной посудой, а я знал, что эти бутылки берут в казенных лавках по четыре копейки штуку, и я набрал их штук тридцать. Таможенный остановил меня, спрашивая, откуда столько бутылок, но у меня хватило присутствия духа небрежно махнуть рукой в сторону угольного парохода и заявить, что «пили всю ночь», он только облизнулся.
Однако я этим и ограничился. Страх, испытанный мной в те минуты, когда таможенный вертел мои бутылки, был так велик, что вовремя поддержал нравственное чувство, и, продав бутылки, я более никогда, даже голодая сильнее, не трогал ничего из вещей. Провизия – дело другое, но о том после. В те дни я был поглощен, главным образом, исканием кошелька. Вы знаете, что такое «искание кошелька»?
Слушайте. Изо дня в день, утром и в палящую жару полудня, вечером и даже ночью я выхаживал длиннейшие одесские улицы, опустив голову и жадно смотря, где, наконец, валяется тот вожделенный бумажник. Я нашел недоеденную кукурузную шишку, медные три копейки и однажды кожаный портсигар, который с трепетом принял за бумажник. Там было штук двадцать папирос. Наконец, нервы мои не выдержали. Я остановил вечером жирного одесского туза, переходившего рельсы как раз против знаменитой лестницы бульвара, и, указав ему на приближающийся паровоз, предложил за вознаграждение в сто рублей положить мизинец своей левой руки на рельсу, чтобы туз имел удовольствие увидеть мои страдания. Почтенный коммерсант дико оглянулся кругом, вздрогнул и побежал вверх по лестнице. Я никогда не думал, что толстяки могут так резво нестись вверх. Его пиджачок-альпага развевался, как крылышки. Увы! Что возможно в Америке, то невозможно в Одессе!
Случилось, что проходя по Карантинной гавани, я встретил помощника Хохлова, симпатичного чахоточного конторщика, и он в тот же день устроил меня так называемым «маркировщиком». Это вот что: на каждой клади, ящике или мешке стоит марка или литер, например: А-5 или С-К. Благодаря таким знакам грузы различных отправителей не смешиваются в одну кучу, потому что в дверях пакгауза стоит маркировщик и каждого носильщика направляет в тот угол, где уже сложен товар, отвечающий своим знаком знаку следующей ноши.
За это платили рубль в день. Здесь встретили меня соблазны, против которых я не устоял, как и все прочие маркировщики и даже таможенные. Ящики с апельсинами, лимонами, гранатами, мешки орехов, фисташек прямо просились в рот. Но в то время как иные пользовались естественными дырами ящика или мешка, я поступал гораздо решительнее: просто вспарывал перочинным ножом мешок и набивал карманы, предоставляя бондарю качать головой и зачинять прорехи. Однажды таможенный солдат, случайно подойдя сзади меня, только ахнул. Я сделал чересчур большую дыру. Однако, оглянувшись, он последовал моему примеру, набил карманы орехами, а затем очень умело и прочно зашил отверстие.
Итак, я брал съестное – орехи, фрукты, утешаясь тем, что другие берут решительно все. хлопок, бусы, материю, рис, вино, консервы, коринку (мешки с подвод), откладывали куски индиго, таскали даже железный лом Причем я не помню случая, чтобы в выходных воротах таможенный задержал кого-нибудь; раз только он сказал одному босяку, у которого рваные полы пальто гремели железом, а бюст уродливо топорщился от огромных мессинских апельсинов: «Смотри, завтра, если что… я ж тебя».
Но не работа в пакгаузе была моим призванием, а, как я думал тогда, плавание по океанам. И вот, зайдя однажды в трактирчик попить чаю, я разговорился и сошелся с собственниками дубка «Св. Николай». То был трехсотпудовый парусник, грузивший черепицу в Херсон. Хозяева – отец и сын – искали матроса. Десять рублей жалованья и рубль задатка, – а вечером я уже таскал, обливаясь потом, тяжелую черепицу, она была погружена так, что корма и нос были загромождены ею, негде было ступить, как по черепице. Как жадно я хотел настоящей морской работы! Дубок был теперь не дубок для меня, а некая австралийская или чилийская шхуна, и должны мы были плыть не в Херсон, а куда-то близ Индии. И не черепицу я таскал, а слитки золота. Как я жалел, что на судне нет пистолетов и абордажных крючьев!
– А зачем они? – спросит читатель. Не знаю, только хорошо, когда есть пистолеты и крючья. Я был доволен и счастлив. Я мог бы запеть, как финны в комической песенке: