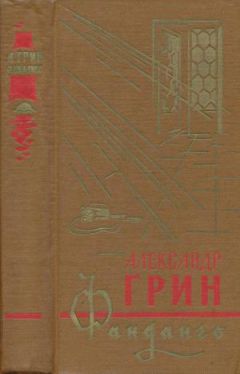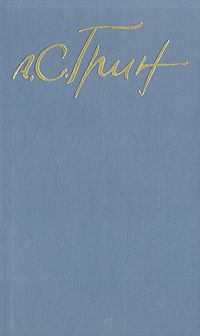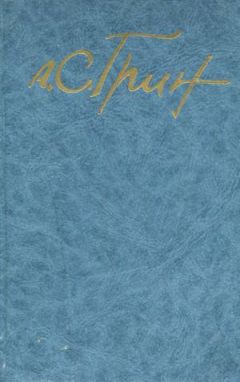Александр Грин - Фанданго

Обзор книги Александр Грин - Фанданго
Александр Грин
Фанданго
I
Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, – хорошо думать о лете, потому что летом тепло.
Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это – июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.
Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед – эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого – мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами – лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.
С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».
В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.
С. Т. – грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так…» – и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.
С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:
– Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот – ваше.
Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.
В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек – это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба – полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.
Я получил толчок к действию, заглянув в шкапчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном). Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.
Я боюсь голода, – ненавижу его и боюсь. Он – искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, – ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, – говорит человек, голодающий жестоко и долго, – потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость – все служит пищеварению. Дети съедят вполовину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больницы – скрадет, склада – скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пар нищей, героически добытой трапезы.
Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его…) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», – подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение.
– Очевидно, – говорил я, – так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку…
Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это – неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, – он означает неуважение и к себе и к другим.
II
Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.
Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что…» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки» ‹/вальс, музыка В. А. Присовского.›, «Пожалей ты меня, дорогая» ‹/романс, слова и музыка Н. Р. Бакалейникова›, «Чего тебе надо? Ничего не надо» ‹/слова из популярной в 20-х годах танцевальной песенки «Девочка Надя»› и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:
– Фанданго!
При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.
«Фанданго» – ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он – транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.
Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.
По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта – даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.
Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, – до дыр на игривых щеках, – бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные лолодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все, – заявлял четвертый, – иду и я».
Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца – черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.