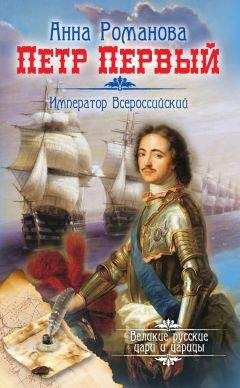Вадим Кожевников - Заре навстречу
Озаренный светом луны, стоял посередине овыоженнoй елани Двухвостов и, угрюмо хмуря волосатое лицо, взвешивал на ладони тяжелый мешочек из оленьей кишки.
Потом Тима увидел мертвого Супреева, а перед нпм на корточках сидел, как лягушка, остроносый, пытаясь закрыть глаза трупа ладонью.
А позади остроносого хмуро стоял Капелюхин. Засунул руки в карманы и внимательно глядел в мертвые глаза Супреева, где, как на фотографической пластинке, отчетливо было видно уродливое лицо остроносого с тонкими, сухими, твердыми, как хребтовое сухожилье осетра, губами, растянутыми до ушей.
И Капелюхин ржавым, скрипучим, спокойным голосом говорил остроносому:
— Напрасно стараетесь: ваша личность в его очах для нас навечно запечатлена. Разве такую улику скроешь? — и попросил вежливо: — Поидем-ка лучше, я вас у забора из пистолета успокою.
И вдруг вместо Супреева Тима увидел Хомякова с виновато закрытыми глазами. Над ним стоял Хрулев и сурово осуждающе говорил:
— Ты мертвый, тебе хорошо. Отдыхаешь, лежишь, молчишь и глаза прикрыл. А мы объясняй людям, почему коммунист дезертиром от жизни оказался. Где такие слова сыщешь, где?
Потом Тима видел себя в сумрачных, затхлых комнатах барской усадьбы на Плетневской заимке. За ним на перепончатых лягушачьих лапах мягко прыгал остроносый человек, мохнатый, как паук, и только очки его холодно блестели. Глядя на Тиму неподвижными, как у птицы, мертвыми глазами, он говорил свистящим шепотом:
— Я еще долго буду жить, долго.
Измученный уродливыми снами, Тима, проснувшись, тихонько оделся и, выйдя пз андросовского флигеля, прошел в больничное здание, которое находилось в глубине Двора.
В палате у мамы были уже папа, Фекла Ивановна и Павел Андреевич. Павел Андреевич говорил маме строго:
— Вы обязаны хотя бы на недельку стать, как вы выразились, идиоткой и ни о чем возбуждающем не думать. Симптомов сотрясения мозга пока пет, но травматическое повреждение верхних покровов значительно. Словом, полный покой, — обернувшись к Сапожкову, сказал: — А вас, милейший, я рассматриваю сейчас только как возможный источник внешнего раздражения. Посему прошу и требую от всяких политических разговоров воздерживаться, и иронически добавил: — То есть обрекаю на немоту, зная, что все иное человеческое лежит за пределами ваших обоюдных интересов.
— Варенька, — сказала маме Фекла Ивановна, — я убеждена, что, стриженная под польку, вы будете еще прелестнее выглядеть.
— Вот-вот, — снисходительно поощрил Павел Андреевич, — обсудите фасон большевистской дамской прически. Полезно для выздоровления, — и взяв папу под руку, вывел его из палаты.
В коридоре к Андросову подошел Рыжиков. Узнав, что состояние Сапожковой «удовлетворительное», попросил:
— Уж вы постарайтесь, Павел Андреевич, ее побыстрее на ноги поставить: она как статистик сейчас позарез нужна в уездном совете народного хозяйства. Без полной статистической картины разве спланируешь как следует?
Сами посудите.
— Помочь вам ничем не могу, — сухо сказал Андросов, — потому что сам в вопросах статистики не разбираюсь, — и спросил ядовито: — Что, у вас грамотных людей не хватает?
— Да, не хватает, — признался Рыжиков, — и поэтому я повторяю свою просьбу. Сделайте все, что возможно.
— Оскорбительная для врача просьба.
— Павел Андреевич, вы меня превратно поняли. Если я или еще кто-нибудь скажет Сапожкокой, что мы сейчас остро нуждаемся в ней, она уйдет из больницы. Так?
— Вполне возможно. Она дама с общественным темпераментом.
— Но если вы ей не позволите, она вынуждена будет находиться в больнице.
— Значит, все же признаете над собой верховную власть медицины, усмехнулся Андросов.
— И вот что, Павел Андреевич, — словно не замечая насмешки, продолжал Рыжиков, — вы там письмецо в ревком прислали, что отдаете принадлежащую вам больницу городу. Мы обсудили ваше письмо и, извините, заглазно проголосовали вас в председатели медицинской секции Совета. Так записано в вашем мандате. Вот поглядите, пожалуйста.
— Вы, может, меня еще и в большевики заглазно запишете? — нервно покашливая, спросил Андросов.
— Так как же, Павел Андреевич? Возьмете у меня мандат или отвергнете по каким-либо особым побуждениям?
Андросов долго сердито сопел, потом спросил отрывисто:
— А что в пем написано о моей персоне?
— Прочтите, пожалуйста.
— Черт его знает, свет от этих трехлинейных ламп какой-то нищенский, пожаловался Андросов. — Знаете, я лучше дома ознакомлюсь внимательно.
— Пожалуйста, — согласился Рыжиков и деловито сообщил: — Прошу вас зайти в медицинскую секцию Совета. Вы ведь отличный организатор, если судить по вашей бочьнице. Поделитесь опытом. Думаем построить новую больницу на две сотпи коек. Теперь, знаете, в связи с декретом о бесплатном лечении просто с пог сбились: из волостей больных везут, несмотря на бездорожье и прочее.
— Ну конечно, — хмуро сказал Андросов, — на дармовщину кому не лень полезут. Тем более питание тоже бесплатное, — и сердито посоветовал: — Вы бы волостным властям дали указание отправлять больных с наличием запаса недельного провианта или хотя бы заменой его дровами. Нужно же чем-нибудь больничные помещения отапливать, — и вдруг угрожающе предупредил: — Но еще не исключено, что мандат ваш после всех размышлений верну. Я ведь, знаете, сангвиник, и всякие неожиданности у меня возможны.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Мама, увидев Тиму, сказала счастливым голосом: — Теперь, Тнмочка, мы с тобой будем видеться очень часто. Я так сильно по тебе соскучилась.
Но Тиме не довелось насладиться своим счастьем.
Спустя несколько дней, мучимый угрызениями совести, он зашел в транспортную контору, чтобы объяснить Хрулегу причину своего «прогула».
В конторе за эти дни произошли разные события: Белужин и Коля Светличный, стараясь наперегонки вывезти как можно больше дров из тайги, где их заготовили курсанты военного училища, загнали насмерть двух коней.
На собрании ячейки Хрулев говорил спокойно и обстоятельно:
— На кирпичном заводе у пас теперь сдельно платят, и на круг на шесть тысяч штук кирпичей стали больше давать, а тем, кто лучше всех работал, из буржуйского конфиската премии: кому ложка серебряная, кому стул венский, кому горжетка.
Решил я и в нашей конской конторе сдельщину попробовать, чтобы людям за хороший труд награда была. Сначала по верстам расчет сделал. А ребята после этого стали коней вскачь гонять с грузом, вот и загнали коней насмерть. Ругать-то я их ругал крепко, по судить там пли что другое рука не поднялась. Когда же такое было, чтоб люди друг перед дружкой трудом хвастали? Не было никогда такого. Думал, такой рабочей гордостью можно какие хочешь дела своротить. И хоть за коней горько было, а на душе за ребят чисто. Вот, мол, что началось в народе впервые!
Пришел в Совет с такими мыслями и еще больше разгорелся, слушая, как другие про свое докладывают. Пыжов карту нашего уезда, всю в разные краски раскрашенную, повесил. И в какую сторону пальцем нп ткнет — то железо, то уголь, то еще какой металл или минерал бесценный. А после него инженер Асмолов, очень такой с виду важный, чертежик на стенку повесил. И выходит по нему, что уголь можно брать прямо снаружи, ежели землю над ним пораскидать, и даже прейскурант зачитал, по которому выходит, что на круг пуд угля, таким мапером добытого, больше чем наполовину дешевле станет и за год полное оправдание капитальных затрат даст, Потом меня объявили. Решил я не с радости начинать — с горя. Говорю: "Вот, товарищи, допустил, двух копей погубили". Тут сразу Коспачев вопрос врезал:
"Значит, это твои павшие копи больше двух суток валялись на главной улице?" Я ему: "Все подводы в разгоне, не на чем было на свалку свезти". А он встал, обернулся и прямо в меня руку простер и говорит: "Массы населения, видя этих павших лошадей, сделали естественный вывод далеко не в пользу Советской власти".
А тут еще Капелюхин меня ударил фактами. Говорит:
"Располагаем сведениями, что действительно контрреволюционные агитаторы воспользовались павшими конями, нарочно собирая возле них народ. И трибунальским работникам пришлось самим тащить тех коней на свалку".
Ну что же, поперек правды ничего не скажешь. Заявил: признаю все на себя. Вот и обсудили меня без жалости, а потом приговор дали. Строгий гражданский выговор от Совета, а по партийной линии получить, что причитается, от своей ячейки.
Хрулев смолк, потрогал усы смуглой от печного жара рукой:
— За то, что кони пали и убраны не были, через что были распущены всякие нехорошие слухи про народную власть, винюсь и все, что вы на меня наложите за это, приму с покорностью. Но, товарищи! — Тут голос Хрулева окреп, возвысился: — Если вы за всемн этими моими промашками и дуростью не заметите, что люди коней загпалп оттого, что трудом загордились друг перед другом, тут я перед всеми встану. Тут я скала. Хоть до губернии дойду, а их унизить не дам.