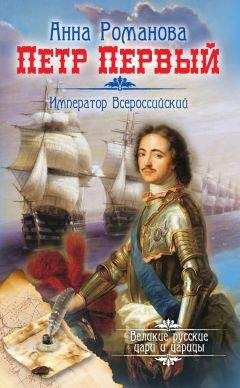Вадим Кожевников - Заре навстречу
Наклоняясь над обескровленным лицом раненого, молил:
— Дяденька, вы мою маму не видели? В белой шапочке. Ну скажите, пересильтесь, скажите?
Но Тиму отталкивали от саней. И никому он был сейчас не нужен, никому…
На дороге показался хлебный обоз. Тима бросился навстречу. Кони медленно тащили по глубокому снегу тяжело нагруженные розвальни. Цепляясь за передки, Тима жадно спрашивал:
— Мама с вами?
Оступившись, завяз в снегу почти по плечи, но тут же выкарабкался, ухватился за облучок саней и волочился за ними до тех пор, пока ему не сказали:
— Нет здесь никакой мамы.
Третьи, четвертые, пятые сани, и к каждым бросался Тима, не страшась надвигающихся полозьев и тяжелых копыт коней. Где-то в снегу он потерял валенок, и нога совсем онемела и плохо гнулась. Вот последняя кошева.
Тима упал под ноги коню, конь бережно перенес над его головой копыто и остановился. Кто-то выволок Тиму изпод коня, втащил в кошеву, несколько раз тяжелой рукой больно и сильно провел по лицу.
— Ну куда лезешь, куда? — сказал человек простуженно и хрипло.
И вдруг Тима услышал нежный, будто из-под земли, — такой слабый был этот голос, — такой любимый и такой странно стонущий:
— Что случилось, товарищ Григорьев? — сказал этот голос, мамин и не мамин.
Тима яростно рванулся во тьму кошевы. Хватаясь за сено, за какие-то мешки, он зацепился рукой за что-то взъерошенное, шершавое, под чем оказалось мамино теплое лицо. Но когда прильнул к нему своим лицом, мама судорожно вздрогнула, рванулась в сторону:
— Больно, осторожней! — и, словно преодолев себя, спросила медленно своим обычным, строгим голосом: — А тебе папа разрешил меня здесь встречать? — и произнесла сокрушенно, будто с ней ничего не случилось: Ты меня огорчил, Тима, таким своеволием.
Тима понял: мама говорит все это нарочно, а с ней произошло что-то ужасное, но она не хочет подавать виду, ведь она такая гордая: когда ей плохо, она никогда не говорит об этом.
Тима прижался к стенке кошевы, чтобы снова не сделать больно маме, и оттуда осторожно тянулся рукой, чтобы прикоснуться хотя бы к ее шапке.
Мама не смогла сама вылезти из возка. Григорьев и Тима, поддерживая под руки, поставили ее на снег.
И когда Тима взглянул при свете на лицо мамы, он чуть не закричал. Оно было костлявым и желтым, как у мертвого Супреева. Под глазами огромные черные синяки, губы опухли, потрескались. А ее белая пушистая заячья шапка с длинными ушами, которыми можно было обвязывать шею, как теплым шарфом, была вовсе не белой и не пушистой. Она стала бурой, склеилась, и в этой бурой корке заячья шерсть торчала, как сухие рыжие щепки.
Голова мамы перевязана грязной тряпкой с рыжими подтеками.
— Это я немножко ушиблась, — объяснила мама и, осторожно засовывая выпавшую из-под тряпки прядку волос, сказала тревожно: — Представляю, какой у меня сейчас вид! Хорошо, что папа встречать не приехал, успею хоть привести себя в порядок.
Опираясь на плечи Григорьева и Тимы, волоча ноги, мама вошла в избу правления и опустилась на лавку.
— Ах, как хорошо посидеть в тепле, — сказала она.
Но потом, зажмурив глаза, произнесла как-то виновато: — Тимочка, я, пожалуй, даже лягу.
Но когда мама легла на сено, она не закрыла глаза и не уснула, а все время смотрела куда-то в одну точку не мигая, и одна щека у нее дергалась. Потом она попросила совсем уже слабым голосом, будто засыпая, хотя глаза оставались открытыми:
— Тима, дай мне руку, а то все кружится, кружится… — и стала быстро каким-то девчачьим голосом жаловаться: — Я не хочу кружиться, оставьте меня, пожалуйста, — И вдруг проговорила очень отчетливо и сердито: — Тима, застегнись, а то простудишься, на улице сегодня холодно.
Тима испуганно поджал под себя ногу без валенка, обшарил пуговицы на поддевке — они были все застегнут.
Он понял: мама бредит, ей очень плохо, и надо ее спасать — ведь она ранена. Да, ранена, а вовсе не ушиблась.
Он одел чей-то валенок и бросился разыскивать Капелюхина. Капелюхин сидел за столом в землянке, а перед ним на лавке — остроносый человек и со связанными за спиной руками Плетнев.
— Так вот, господин Дукельскпй, — сурово говорил Капелюхин остроносому. — Давайте скоренько выкладывайте, что вам еще поручили?
— Во-первых, я ранен, — и остроносый приподнял руку, обвязанную тряшщей. — Не гуманно допрашивать раненого, не оказав ему медицинской помощи.
Капелюхин, не торопясь, распахнул куртку, показал окровавленное полотенце, которым была обвязана грудь.
Пообещал:
— Вместе потом медициной попользуемся, — и продолжал деловито: — Так, значит, слушаю. Кстати, пистолетики от кого получили?
— Только для самозащиты, — поспешно заверил остроносый.
— Стреляли в безоружных?
— Знаете, — поморщился остроносый, — не будем о деталях спорить.
— Не будем, — согласился Капелюхнн. И, выкладывая на стол стопку бумаг, спросил жестко: — А вот с какой целью вы фальшивые мандаты привезли? Попрошу подробнее.
— По законам юриспруденции, я не обязаи отвечать на все вопросы.
— Заставлю, — глухо сказал Капелюхин.
— Каким образом?
— А вот, — Капелюхин кивнул головой на дверь, где гудели голоса коммунаров: — Выведу к ним и скажу: сами спрашивайте, а то мне отвечать не хочет.
Спустя минуту Капелюхин, опершись локтем о стол, поспешно писал под диктовку остроносого. И уже казалось, что оба они заняты каким-то увлекательным делом.
Но Тима не успел и слова сказать Капелюхину, как в землянку вбежал Хрулев:
— Хомяков сейчас при всех людях сначала себе приговор объявил, а потом не успели за руку схватить, как он из нагана… — И, поперхнувшись, Хрулев добавил тихо: — Может, зря я у него партийный документ сразу тогда забрал вгорячах.
Капелюхпн потер раненую грудь ладонью, обтер кровь с нее о штаны и проговорил устало:
— Значит, партийная честь его такая была, вроде ножа острого, — и проговорил строго: — Ты пойди к людям, разъясни.
— Скажу, — глухо произнес Хрулев.
— Ну вот и валяй, — приказал Капелюхин. Потом уставился едкими, страшными глазами на остроносого и спросил глухо: — Ну вот вы, господин дворянин, за своюто честь, может, пожелаете также вступиться? — и протяиул револьвер, держа его за ствол.
Остроносый отшатнулся и, отталкивая револьвер обеими руками, взмолился:
— Что вы, что вы, с ума сошли? Я жить хочу. Умоляю — жить! Вы меня еще, пожалуйста, терпеливо послушайте, ведь я очень осведомлен, очень. И опять молю и повторяю: по всем юридическим законам, за добровольное, с готовностью сделанное признание заслуживаю снисхождения. Только сохраните жизнь. Хотя бы до конца дней в заключении. Но — жить!
— Как клопу в печной щели, что ли? — зло спросил Капелюхин.
— Как угодно, только жить!
Капелюхпн подошел к кадке с водой, зачерпнул ковшом и стал пить жадно, как лошадь. Обернувшись к Тиме, сказал:
— Ты за мать не бойся. Ее только вскользь топором задело. Ослабла она, конечно. Отдохнет и встанет. Она у тебя смелая. Из «бульдожки» такую пальбу подняла, только держись. Людьми командовала, как королева.
А уж до топоров дошло, когда мы подскочили, — и с доброй улыбкой добавил: — И мамаша-то она заботливая, лисенка живого тебе в подарок везла, да задавили его в рукопашной свалке. Я уж не сказал ей про лисенка, говорят, тетешкалась с ним, за пазухой везла, все руки он ей исцарапал. А она упрямая, говорит: довезу. И вот не довезла…
К вечеру из города приехал отец, с ним Андросов и Ляликов. Двоих раненых Андросов оперировал прямо на столе в избе правления, остальным отец и Ляликов сделали перевязки. Мама только раз улыбнулась отцу. Это когда он пинцетом укладывал на ее голове сорванную кожу, после того как срезал осторожно ее чудные волосы вместе с полуразрубленной косой. Мама спросила отца с печальной улыбкой:
— Я очень некрасивая стала, да?
— Ты самая прекрасная на свете, — строго, без улыбки сказал отец.
Но мама проговорила устало:
— Я сейчас на мартышку похожа, — и жалобно попросила: — Ты не смотри на меня.
— Хорошо, — сказал отец, — не буду.
Но не отводил от лица мамы тоскливых глаз, а мама снова начала жаловаться, что ее кружит, и звала Тиму, чтобы он взял ее за руку и не давал ей кружиться.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Везли маму в город в кошеве на сене. Вместе с мамой прибыло десять саней с хлебом и сеном. Теперь кони транспортной конторы не помрут с голоду. А на дровнях, с которых сняли мешки с зерном, лежали мертвые Супреев и Хомяков, накрытые красным флагом.
В андросовской больнице с мамой остались папа и Ляликов. Тиму Андросов увел к себе домой, обещая завтра с рассветом пустить к маме. Еще перед уходом Тимы Ляликов, сопровождавший раненых, взволнованно сказал отцу: