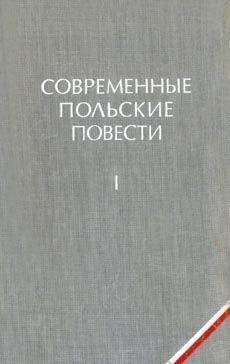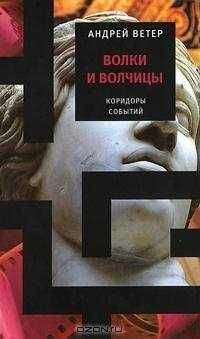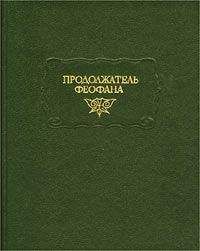Юрий Герман - Один год
И вскорости Иван Михайлович уже вылезал из автобуса неподалеку от того Дома отдыха, где "бедовал" горемычный Антропов.
Во дворе было безлюдно, только тетка в белом халате яростно пихала поленья в жарко дышащее жерло топки под "титаном". И Лапшину на мгновение показалось, что неподвижный, накаленный воздух - здесь на юге - дело рук кубовщицы в белом халате.
- Антропова бы мне, - сказал Иван Михайлович. - Доктор у вас тут отдыхает - такой лысоватый... солидный, что ли...
Кубовщица, не глядя на Лапшина, ответила, что отдыхающие сейчас как раз отдыхают...
- Где же они отдыхают?
- Где, где... на пляже, где...
По ее голосу было ясно, что она терпеть не может всех решительно отдыхающих, и Лапшин пошел к морю. Еще издали, спускаясь по ступеням, он увидел Антропова и понял, что тот не отдыхает здесь, а работает как вол: взобравшись на большой камень, Александр Петрович готовился к прыжку и что-то кричал лихим и напряженно-веселым голосом. Внизу, возле камня, по пояс в воде стояли женщины в ярких резиновых шапочках и слушали его крики. Потом он побежал по камню, сложил руки ладонями вместе и шикарно прыгнул, а женщины в шапочках, визжа, теснились стайкой и наконец поплыли вместе с Антроповым, который и в воде все что-то оригинальничал: то плыл на спине, то брассом, то кролем, то вдруг вертелся волчком и кувыркался, чем-то напоминая дельфина-детеныша...
Иван Михайлович расстегнул ворот своей белой, широкой гимнастерки, сел на скамью, закурил, поджидая Антропова и думая о нем с ленивым сожалением, но тут же оборвал свои мысли, потому что предположил, будто и сам несколько схож с Александром Петровичем нынче, ожидая Катю, которая едет сюда, конечно же, только по-товарищески, а никак не иначе...
И, выдернув из бокового кармана гимнастерки заношенное Катино письмо, он вновь, в который раз, принялся его перечитывать, убеждая себя, что Балашова едет именно к нему, а не только для того, чтобы разобраться в самой себе и привести в порядок свою внутреннюю жизнь. Фразы, которые имели отношение к нему, Лапшин читал особенно внимательно и даже строго, шевеля при этом губами, все же, что связано было с тем, кого он именовал в глубине души "индюком", Иван Михайлович только пробегал, стараясь не вникать в суть непонятных ему и враждебных подробностей...
Ужинали вместе в чебуречной - Лизавета, Антропов и Лапшин. Легкие, белые занавески продувал теплый ветер с моря, шевелил скатертью, трепал Лизаветины волосы, она, ласково смеясь, собирала их и стягивала в тугой узел на затылке. После длинного купания и криков в воде, после пекучего солнца на пляже было видно, как девушку разбирает истома, ела она нехотя и порой закрывала свои узкие, чуть раскосые глаза. А Антропов беспокоился и немножко сердился:
- Нельзя же до такого состояния себя доводить! - говорил он Лапшину. Ее, понимаешь ли, Иван Михайлович, просто немыслимо из воды вытащить. Изволите видеть, сидя спит. И так - каждый день...
- Ну а что плохого-то? - отвечал Лапшин. - Усталость здоровая, правильная. Или не по науке?
Не допив вино, Лизавета встала, потянулась и, подавляя зевок, сказала:
- Простите, Иван Михайлович, не могу больше. До того спать хочу - глаза закрываются. До свидания!
И, протянув ему красивую, сильную руку, повернулась к Антропову:
- С утра у нас игра, Айболит! Не смейте в это время спать! Слышите?
Она ушла, Антропов заказал себе коньяку, выпил большими глотками и пожаловался:
- Прочитал я недавно одну книгу, забавную, знаешь ли, Иван Михайлович. В семнадцатом веке, что ли, сочинена. И вот купец этот, автор и путешественник, все терпит кораблекрушения - одно за другим, во всех морях и океанах. Ну, и когда чувствует конец, то всегда восклицает: "Здесь, разумеется, пригодился бы добрый совет, но посоветоваться, по воле Провидения, в данном случае мне было совершенно не с кем". Понятно вам?
- Более или менее, - с легким вздохом ответил Лапшин.
- Ну а у меня решение уже созрело! - воскликнул, краснея от выпитого коньяку и заказав себе еще, Антропов. - Созрело! Я, Иван Михайлович, решил уехать.
- Вот как?
- Вот как. И далеко. Толковые врачи-практики везде нужны.
- Это разумеется, - холодно глядя на Антропова и вертя пальцами фужер с боржомом, ответил Лапшин. - Только, я так рассуждаю, нужны не те, которые от себя удирают, а те, которые просто приезжают...
Он отхлебнул из фужера, закурил и отвернулся. Ему было неприятно смотреть, как непьющий в общем Антропов жадно и неумело выхлебал свой коньяк. В это время по узкому проходу между столиками подошел человек лет шестидесяти, толстый, с наголо бритой головой, с висячими щеками, сипло спросил: "Можно?" - и, не дожидаясь ответа, сел. В груди его сипело и ухало, словно там не в лад работало много машин, губы у него были синие, рот полуоткрыт. Перехватив взгляд Лапшина, он улыбнулся, коротко объяснил: "Астма, сейчас вряд ли умру, не бойтесь" - и налил себе красного вина пополам с нарзаном. Антропов смотрел на него, словно на привидение.
- Вечерним московским приехал, - сказал незнакомый человек Антропову, помылся, съел котлетки из капусты и морковное суфле и пришел сюда ужинать! При слове "ужинать" все внутри у него опять заскрежетало, заскрипело и загудело. - Вот так!
Официанту он заказал добрый десяток блюд, долго ел, запивая одно блюдо за другим боржомом, потом спросил у Лапшина:
- Вы тоже врач?
- Нет, - ответил Лапшин.
- Это мой друг! - нетрезвым голосом громко произнес Антропов. - Более того - друг и учитель!
- Это вы его научили написать заявление об уходе из клиники? Впрочем, познакомимся, моя фамилия - Солдатов.
- Он - наш главный! - опять воскликнул Антропов. - Заявления пишут ему, а апелляции господу богу.
Съев бастурму с чебуреками, Солдатов утер потный лоб салфеткой, долго дышал и наконец произнес:
- Ваше заявление, Антропов, я разорвал и бросил в корзину. Так что теперь можно говорить обо всем в прошедшем времени...
И, повернувшись к Лапшину всем телом (Солдатов, видимо, не умел ворочать шеей), сказал:
- Так как вы друг и учитель Антропова и, видимо, это ваша идея насчет заявления, то выслушайте меня: будучи у меня на приеме (я лицо должностное и номенклатурное, и у меня приемы), ваш Антропов рассказал мне свою историю, достойную пера художника. Я подумал и пришел вот к какому выводу: девица, из-за которой происходят все красивые мучения нашего Александра Петровича, незамужняя. Сам Антропов, по его же словам, вдовец. А я - человек преклонного возраста, имеющий привычку размышлять на досуге, - убежден житейским опытом и наблюдениями вот в чем: от плохой жены можно уехать. От дрянного, маленького, копеечного чувства тоже можно уехать. Даже должно. А от настоящей любви, дорогой товарищ, не имею чести знать вашего имени-отчества...
- Иван Михайлович...
- Почтеннейший Иван Михайлович, так вот: от большого чувства, простите мой несколько архаический стиль, - никуда не уедешь. Никуда и никогда! Настоящая любовь, опять-таки простите, она до гробовой доски, и даже, как некоторые утверждают, - дальше! Ни каторга, ни ссылка, во времена моей юности, истинную любовь побороть не могли. И вот, вместо того чтобы советовать написать заявление о переводе "по личным мотивам" в дальние края, вы бы лучше, почтеннейший Иван Михайлович, посоветовали вашему выученику жениться на его подруге. Взять ее за руку, повести за собой и жениться на ней...
- Видал? - крикнул Антропов. - Видал, Иван Михайлович? Вон как все просто, а? Видал?
Солдатов молча смотрел на Лапшина. Внутри у него по-прежнему ухало и сипело, но он не обращал на это, казалось, никакого внимания.
"Взять за руку, повести за собой и жениться!" - подумал Лапшин, вставая. А когда Антропов закричал ему, что он так ничего и не посоветовал, Лапшин ответил негромко и спокойно:
- Возьми за руку, поведи за собой и женись...
Домой Иван Михайлович вернулся поздно, выкупался в "своем море", побрился перед маленьким зеркальцем, крепко вытер лицо одеколоном и, задумавшись, сел на кровать. Сипенье и уханье в груди Солдатова все еще слышалось ему, как и голос, утверждавший, что настоящая любовь до гроба. "Да, это правильно - до гроба, - упрямо и радостно согласился с Солдатовым Лапшин. - Никуда мне от нее не деться, и никуда я ее больше от себя не отпущу!"
"А в это время..."
А в это время в комнату, где по-прежнему стучал на машинке Давид Львович, просунулся Окошкин.
- Разрешите?
- Ноги вытри, на что похоже с грязными сапогами, - заворчала Патрикеевна.
- А вот как раз ноги у меня и вытерты!
Стряхнув макинтош, Вася развесил его на спинке стула, вытер душистым платком смуглое лицо и сказал, ни к кому не обращаясь:
- Интересно, долетела уже или еще нет?
- Сейчас, сейчас, сейчас, - быстро, словно колдуя, забормотал Ханин. Минуточку, минуточку, минуточку...
Он боялся забыть начатую фразу.
Вздохнул, развалился в неудобном лапшинском кресле и сказал: