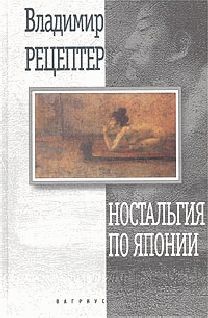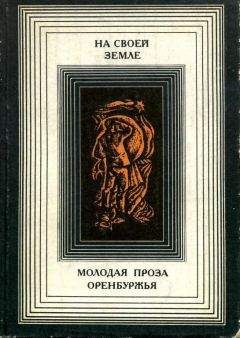Петр Краснов - Понять - простить
Ленин — бес полуденный. В полдень свободы русской явился он. Когда одичавшему народу казалось, что светит над ним солнце, и зарева пожаров принимал он за лучи света, пал, "от страны твоей тысяща и тьма одесную тебе" — явился Ленин, и тысячи преступников и тьма низких людей окружили его и стали ему угождать. Слушайте! Родные мои братья!.. Пока мы — толпа неорганизованная, пока мы стадо без пастыря — Ленин над нами. Ибо он герой толпы. Ибо он в своем физическом и нравственном убожестве нужен ей… Потому что каждый сознает в сердце своем, что он выше, лучше, умнее, красивее, талантливее Ленина, своего владыки, и каждому это лестно. Ленин — мерзавец, и он — царь!.. Значит, и мне можно быть мерзавцем. Ленин кровопийца и вор, Ленин, продажная душа, предавший Родину, продавшийся врагу, — правитель над Россиею, и его портреты развешаны по всем домам. Значит, и я… я… кто много лучше Ленина — я достойнее его… Я могу делать, что хочу, потому что, что бы я ни сделал, я не превзойду Ленина в его мерзости. Вот где сила диавола, вот где его соблазн.
— Когда же это кончится? — выкрикнул кто-то у костра, и крик его был полон отчаяния.
— Когда же, Олег Федорыч, домой?
— Когда?.. В наших руках и в нашей воле времена и сроки. Надо стать народом, а не толпой. На Руси ходят легенды. Идет по Сибири царь. Босой, с отросшей бородой, в простой одежде странника. Он добр и милостив, он властен и благороден… и потому признают в нем царя… То тут, то там советская власть арестовывает самозванцев… В глухих деревнях, по монастырям и скитам добрые люди укрывают кого-то и верят, что это дети государевы. Там, говорят, растет наследник, будто бы спасенный стражей, там проявилась великая княжна, ангелу подобная, там услыхали о брате государевом… Народ просыпается, расходится толпа, и отдельные выкрики «орателей» сменяются шепотом мудрых. Когда вы остаетесь одни с самими собой и ночью укутаетесь с головой рваной шинелькой, о чем думаете? Вы тогда сознаете, что прежде лучше жилось вам, что тогда вы были дома и были свободны, не знали ни виз, ни заграждений, не знали стеснений труда, но собрались на круг, съехались на съезд, и размахались языки в гортани, и полны вы "словесе мятежни". "Воля народа…" "Что круг скажет, что укажет, тому и быть…" А где народ? Видали вы его? Толпы разбойников, окружающих Ленина, богохульники и развратники тоже народом называют себя, говорят от имени рабочих и крестьян… Не кричим мы разве и здесь, на чужбине, о "завоеваниях революции", не мечтаем о республике, не говорим о "свободе, равенстве и братстве", когда добились такой свободы, что живем хуже, чем в тюрьме, что приравняли нас к скотам и наши братья-славяне платят нам в два раза меньше, чем своим, и презирают нас…
— Правильно, Олег Федорыч.
— Правильная твоя речь, — раздались голоса.
— Единения нет. Всякий в свою лавочку зазывает.
— Ничего признавать не хотят.
— Что же делать? Научи, отец родной!
— Скажите Господу: "Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словеса мятежна: плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его…" Повсюду "словеса мятежны". В России живая церковь судит патриарха, в России раскол и безбожие хуже, чем во времена Ария, в Париже — словеса мятежны, в Белграде, в Софии, в Варне и где бы ни собралось хотя три русских — там словеса мятежны. Потому и боимся мы страха нощного, боимся стрелы, летящия во дни, и потому идем и кланяемся сатане, зная, что это диавол. Нет в нас веры.
— А что такое вера? — спросил кто-то из офицеров.
— Вера есть уверенность в правде своей, не нуждающаяся в словах. Скажу горе: "Иди", — и пойдет.
— Почему же никто не говорит?
— Потому что грех испытывать Господа. Если пробую, значит, не верую. Если верую, мне не надо чуда.
— Почему чудес нет? Разоряли храмы Господни, убивали священников, и Бог не покарал никого.
— Так ли, господа? Не лежит ли Ленин в противной, гадкой, позорной болезни? Не гниет он заживо? Не умирает Русь, пожирая трупы близких своих, и не покрыта ли вся земля смрадным мраком диавольского дыхания?
— Комиссары веселятся. Молодежь с жиру бесится.
— Надолго ли?
— Где же выход?
— Домой, братцы, пора. Земля к себе зовет. Надоело скитаться по чужим краям.
— Своя земля лучше.
— Там и солнце краше. И цветы дух имеют.
— Пора им перестать мучить людей.
— Вы спрашиваете меня: когда? Когда перестанете быть толпой и возносить наверх мелких и ничтожных людей. Когда избавитесь от "словесе мятежна" и искренно скажете: Россия есть Россия, и не иначе, как под царем, может быть Россия. Под царем православным! И все вместе скажете то имя, что у всех на душе. И тут… и там…
— Миколай Миколаевич, — пронеслось гулом по толпе.
— Верховный главнокомандующий.
— После него уже главковерхи пошли.
— Слякоть… Изменники…
— Да когда же пробьет тот час, когда разовьется над русской землей трехцветный флаг да заблистают казачьи пики на тихом и вольном Дону?
Костер догорел. Кто-то принес охапку ветвей. Огонь притух, но сейчас же побежали кривыми змейками огоньки по сучьям. Веселый раздался треск, и вдруг сразу вспыхнул костер и осветил толпу. Стало видно, что много еще казаков понашло из монастыря.
Олег Федорыч спустился к казакам.
— Вот и ничего утешительного не сказал человек, а стало легче на сердце.
— Миколай Миколаевич! Эх! Дал бы Господь!
— Сподобил бы!
— Все пошли бы с им.
— Олег Федорыч, что, правда, чи нет, вы нас покидаете?
— Да. Получил письмо из Германии. Отец в Берлине умирает. Проститься зовет.
— А потом к нам?..
Ничего не ответил Олег Федорович. Вошел в круг казаков, стал спиной к костру. Высокий, тонкий. Шинель висела на нем, как монашеское платье.
— Ну-те… Паша! Коля… Селезнев, Волков, дружно! Ермилов, начинайте, что ли! — сказал он.
— Какую?.. Нашу?..
— Валяйте для начала.
Под развесистыми дубами, в тесной долине, куда смотрелись с неба любопытные звезды, где на ветвях еще висели капли дневного дождя, по сырости и туманам Македонских гор стоном пронесся высокий тенор:
Скучно жить нам на чужбине,
Ноет сердце казака,
— и сейчас же его мягко обступил голосами большой, хорошо спевшийся хор:
Край родной наш раздирает
Большевицкая Чека!
Атаман… Казак могучий!
Рать лихую собирай,
Пусть несется грозной тучей
На врага, за родный край.
За поля, луга степные,
За могилы стариков,
За напевы, нам святые,
Умереть казак готов.
Ты не плачь, не плачь, казачка!
Слышишь? Кони в поле ржут.
Видишь? Там лихая скачка:
Казаки на Дон идут…
— Господа! Картошка готова. Пожалуйте! Стол сервирован на сто кувертов!
— Эх… Дал бы Господь!
— С весной и в поход!..
И страшные вставали вопросы. Где собираться? Откуда идти? Где коней достать? Где оружие добыть? Не верили никому. Страшились непонятного, но жуткого слова: авантюра.
— Если бы он-то с нами! Верховный!
Вздыхали тяжело. Дули на картофель. Обжигались. Чавкали… Порывисто ели… Голодные… Оборванные… Бездомные… Одинокие… Чужие… На чужой, нелюдимой стороне…
XIII
В январе 1918 года, когда новочеркасские гимназисты и кадеты — чернецовские партизаны — вели бои с казаками Голубова под Каменской, к ним с севера перебежал юноша восемнадцати лет. На нем была мужицкая серая свитка, высокие сапоги и баранья крестьянская шапка. Когда в избе, в чернецовском штабе, снял он с себя свитку — он оказался в кадетском мундире с золотыми пуговицами и с алыми погонами с вице-унтер-офицерской золотой нашивкой. При нем были старые, царского времени документы. По бумагам — он был кадет седьмого класса Олег Кусков. Это было видно и по его ловкой ухватке, выправке, отчетливой ясности ответов с прибавлением титулования.
Донские кадеты признали в нем «своего». Ему выдали винтовку, амуницию, обмундирование и приняли в славную семью чернецовцев.
После смерти Чернецова отряд его пробился к Новочеркасску. Одни «распылились», разошлись по семьям, другие остались при ядре в корпусе. С ними остался и Олег Кусков. При выступлении 12 февраля из Новочеркасска походного атамана Попова с партизанами с ними ушел и Олег Кусков. И все забыли, что он не казак, сроднились с ним и горячо его полюбили. Это был тихий юноша, мастер на все руки. Он играл на фортепьяно и на многих инструментах, хорошо пел, был мальчик набожный и при церковных службах умело помогал священнику. Его зачислили в казаки, и, когда по освобождении Новочеркасска созидалась на Дону постоянная армия, он по набору попал в персиановский лагерь, в один из конных полков. Он пережил то, что так красиво воспел молодой донской поэт Н. Туроверов в воспоминании о персиановском лагере у Новочеркасска: