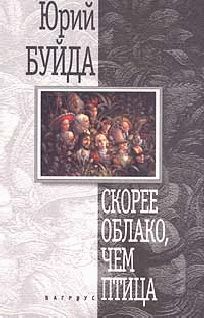Юрий Буйда - Кёнигсберг
- Потому что черт его знает...
Гена занял весь дверной проем своей импозантной внешностью, половину которой составляла его ослепительная улыбка.
- Вы мне нравитесь, ребята, - сообщил он. - Но у вас что-то подгорает. Ей-богу. Но я люблю вкус и запах подгорелого пирога. С мясом?
- С рыбой, - упавшим голосом ответила Вера. - Но вкусный.
- Так за чем же, черт, дело стало! - заорал Конь, хватая с крючка матерчатую рукавицу. - К орудию! Да выключайте же вы свою духовку к чертям свинячьим!
У нас были просторная прихожая, поместительная кухня, большая гостиная и уютная спальня.
Еще у нас была комната Макса, вход в которую был задернут ковром. Она запиралась на массивный запор с толстыми стальными накладками и замок, вделанный в дверной блок, - двумя разными ключами с длинными резными бородками. Грохота, однако, при отпирании почти не было. То ли замки были так смазаны, то ли - так устроены.
- Если хочешь, мы заколотим ее насовсем, - сказала Вера. - А можем сделать здесь твой рабочий кабинет. Как? Поставить письменный стол - и готово. Да решетки снять, конечно.
Зазвонил телефон.
- Иди, - сказал я. - Я посижу тут.
Комнатка была узкая, маленькая, у одной стены стоял застеленный суконным одеялом раздвижной диванчик, рядом с ним низкая тумбочка с синей лампочкой под цветастым абажуром. Напротив двери было окно, забранное решетками изнутри и снаружи. А справа, рядом с миниатюрным креслом, высилась пустая птичья клетка.
Я заглянул в тумбочку: металлическая эмалированная кружка, накрытая свежей салфеткой, на нижней полке - альбомы для рисования. Я листнул один наугад: это были какие-то детские каляки-маляки, но выполненные с таким остервенением, что при внимательном взгляде начинало мерещиться что-то, скрытое за этими изломами цветных линий и в яростно скрученных шарообразных лабиринтах.
Единственная вещь, которая заслуживала внимания, висела в простой рамке - без стекла - на стене, и мне пришлось подойти вплотную, чтобы в деталях разглядеть эту гравюру.
На ней была изображена комната с низким потолком, с кроватью под балдахином в левом углу и спинетом с нотами, с брошенными подле высокого табурета шелковыми туфлями, - справа же была видна половинка длинного стола с бесформенной тенью от предмета, стоящего, судя по всему, либо на отсутствующем на картине конце стола, либо на подоконнике. Точно в центре дверь, которую закрывает за собой женщина - зрителю виден только край ее уплывающего в дверной проем платья да рука, уже отпустившая край двери она вот-вот захлопнется. Листок нотной тетради отогнулся и дрожит, не успев занять свое место, брошенные туфли по-настоящему, кажется, не улеглись и еще не остыли после женской ножки, спинет звучит, угасая, и улетает тихое шуршание платья и теплый блик полной немецкой ручки, - и во всем, во всем ощущалось смятение, тревога, угроза, и в поисках причины взгляд снова возвращается к столу, на вычищенные доски которого падает свет из невидимого окна и бесформенная тень чего-то, что, возможно, и таит в себе угрозу. Ваза? Человек? Демон? Гравюрка была украшена рамочкой, выписанной из затейливо сплетенных цветов и зверей, между которыми была искусно вписана фраза "Als ich Kann". Так подписывался кто-то из известных малых голландцев, кажется, но это была копия, да и не был я знатоком или хотя бы любителем живописи, чтобы оценить гравюру по достоинству или отыскать в ней изъяны. Она мне понравилась. Я перевернул ее и прочел на гладком, как кость, картоне: Kцnigsberg, 1900. Надпись была сделана черной тушью с золотым блеском. Или этот блеск - лишь свидетельство старости? Не знаю. Еще один осколок, чудом сохранившийся от города королей и залетевший в эту комнатку-тюрьму для душевнобольного Макса.
Эта гравюра скрывала тайну - либо же, что вероятнее всего, таила немудреное наставление непослушным девушкам, норовившим во все времена нарушать запреты и ускользать на зов любимого? опасного? Лесного Царя?
- Это почти все, что осталось на память об отце, - сказала Вера. Макс мог часами разглядывать ее. Ну и как?
Она развела руками, словно представляя комнату.
- Годится, - солидно ответил я. - Ничего не нужно менять. Только письменный стол. А гравюры такие я и сам в детстве любил разглядывать. Кажется, напряжешь зрение - и вот из полутьмы проступит Оно...
- Бр-р! - Вера схватила меня за руку. - Но ничего не проступает, а Оним оказывается обман зрения. Кстати, звонила старинная знакомая, и мы договорились, что я приду на собеседование. Я ведь столько лет не работала! Надо переаттестацию пройти и все такое прочее. Ты не против?
- Нет, конечно.
14
Я не стал интересоваться у бабушки, как она разузнала мой номер телефона, только предупредил, что приеду не один.
- Как ее зовут? - спросила бабушка. - Вера или Катя?
- Вера, - сказал я. - А почему Катя?
- Это все карты, Борис, - серьезно ответила она. - Так в пятницу же вечером.
И в пятницу вечером мы отправились электричкой через по-февральски расквашенные поля, сквозные тощие леса - домой, к бабушке, которая отмечала свой день рождения несколько раз в году, как только предчувствовала приближение гнетущей меланхолии.
Мне понравилось, что Вера не стала рядиться девочкой-подростком, но лишь как-то по-особенному уложила волосы, сняла тяжелые золотые серьги, оттягивавшие уши, и надушилась какими-то редкостными духами, запах которых то возникал вдруг, будоража мое испорченное воображение, то становился едва-едва ощутимым, словно дразня и вызывая раздражение памяти, а то и вовсе исчезал. Когда я спросил, как называются духи, Вера пожала плечами: "Катя говорит - cache-cache, но она врушка. Я никогда про такие не слышала". - "В переводе с французского - игра в прятки, - сказал я. Кстати, среди множества бабушкиных причуд есть одна уникальная. Она свободно владеет французским, однако не может ни прочесть, ни написать хоть слово на этом языке. Она учила язык на ходу - у матери, которой было недосуг научить дочь даже писать по-русски. Это я ее научил, когда отец привез ее к нам. Мне было семь лет. Помню, когда ей объяснили, как пользоваться уборной, она с изумлением и негодованием воскликнула: "А la maison - срать?!""
Вера уткнулась носом в мое плечо, вздрагивая от смеха.
Узнав, что бабуля курит трубку, она собрала в картонную коробку несколько десятков непочатых пакетов с ароматным трубочным табаком, который дарили Максу друзья, - в подарок бабушке.
- Ей будет приятен сам подарок, - предупредил я ее. - А курит она махорку. И водку пьет стаканом. Граненым стаканом, изобретенным, говорят, еще Верой Мухиной.
Анна Сигизмундовна Григорьева-Сартори встретила нас у пылающего камина, налила по рюмке коньяка "с дороги" и сразу стала называть Веру девушкой и Верочкой. Меня же отправила наверх ("Я постелила вам в твоей комнате, разберись-ка, пока мы накрываем на стол"). Поднявшись на второй этаж, я сел на низенькую табуреточку под часами, висевшими рядом с дверью в детскую, и закурил.
- Он перестал считать этот дом родным, - грустно проговорила бабушка внизу, раскуривая трубку. - Но он любит меня и ради меня готов смириться... со всем этим... Но пойдемте-ка, Верочка! Угощение готово, теперь надо подобрать напой... выпивку то есть...
Бабушка выпила больше обычного, сыграла на гитаре что-то разудалое, а когда часы в соседней комнате пробили два пополуночи, вынула из кармана металлическое яйцо, сдвинула что-то и поймала в ладонь перстень.
- Надевай, - велела она. - На мизинец. Это мужской перстень, Верочка, кто знает, сколько я еще...
- Ну! - нахмурился я. - Будешь каркать - не возьму.
- Откаркала свое, - проворчала бабушка, раскуривая трубку.
- Она почему-то считает, что этот перстень - наша родовая реликвия, пояснил я Вере. - И не дай Бог усомниться! Последует такая лекция по генеалогии...
- Расскажи тогда сам! - сердито сказала бабушка. - Генеалогия! Это были живые люди с живой кровью, которой их родословные и написаны. И будут писаться. В том числе твоей кровью, - с ехидной улыбкой добавила она. Отныне ты - владелец перстня фон Лихтенштейна.
Я закурил последнюю сигару и поведал Вере историю этого странного рыцаря-чудака, которого бабушка почему-то числила среди наших предков. Впрочем, с тех пор прошло столько веков, что в одном из дождливых столетий наши семьи волею случая могли и не избегнуть смешения кровей.
Великий рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн родился, жил и умер в Штирии. Будучи пажом Маргариты, жены правящего герцога Леопольда Штирийского, тринадцатилетний юноша влюбился в нее так, что пил воду, в которой она мыла руки, и поглощал содержимое хрустальной вазы, которую утром выносили из спальни герцогини. Она же не обращала на него ровно никакого внимания. Шли годы, а Ульрих служил своей взбалмошной Даме. Поседевший, он участвовал во всех турнирах - на одном из них ему и отрубили мизинец.
И лишь после этого Маргарита согласилась принять его на службу. В знак своей благосклонности она прислала рыцарю золотой перстень, изготовленный точно по размерам отрубленного когда-то пальца. В соответствии с правилами рыцарь теперь мог провести ночь с Дамой, не нарушая ее чистоты. Вообразив себе ночь с любимой, рыцарь разразился следующей сентенцией: "Только глупец может до бесконечности служить там, где нечего рассчитывать на награду". После чего надел подаренный перстень на то место, где когда-то был палец, тень от его руки, упавшая на пол, была пятипалой, - и сказал: "Держится. Это и есть любовь, остальное же - лишь тень ее".