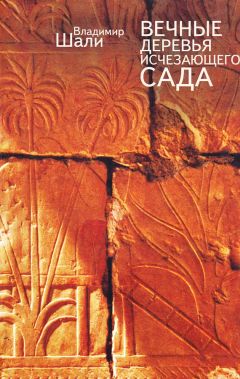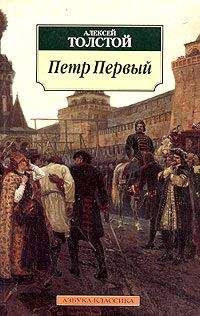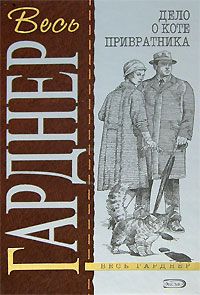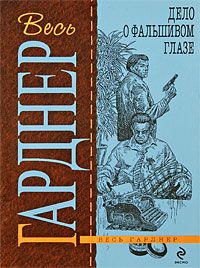Лев Толстой - Том 13. Воскресение
Чтобы нравственно возродиться, Нехлюдов должен не только искупить свой грех, свою вину перед Катюшей, — он должен радикально решить для себя «крестьянский вопрос», исправить несправедливость, безнравственность, «грех» владения земельной собственностью. И такое решение он находит именно в Панове, в деревне тетушек, то решение, которое, как первый шаг, как начало, казалось радикальным и самому Толстому: «отдать землю крестьянам внаем за ренту, а ренту признать собственностью этих же крестьян». Такое решение «земельного вопроса» приближало осуществление так называемого единого налога, или единой подати на землю — Single-tax — проекта, предложенного американским экономистом, публицистом, общественным деятелем Генри Джорджем[97].
Толстой писал позднее в предисловии к русскому переводу книги Г. Джорджа «Общественные задачи» (М., 1907): «…теперь совершается в России революция, серьезная основа которой одна: отрицание всем народом, настоящим народом, земельной собственности. <…> В огромном большинстве русского народа всегда жила и живет до сих пор основная идея Генри Джорджа, состоящая в том, что земля есть общее достояние всех людей и что обкладываться налогами может только земля, а не труд людей» (т. 36, с. 302).
Толстому казалось, что земельный вопрос — основной вопрос русской крестьянской революции — может быть решен путем осуществления единого налога, хотя эта утопия, в сущности, отрицается уже в «Воскресении» указанием на переход земли из рук «господишек», как презрительно говорит Нехлюдову извозчик-мужик, в руки купцов и «дюфаров» (Дюфар — в «Воскресении» — разбогатевший театральный парикмахер). «У них не укупишь, — сами работают». Тем более не отдадут они, купцы и «дюфары», землю крестьянам, как отдал Нехлюдов, убедившись в несправедливости, безнравственности землевладения. Нравственное решение земельного вопроса, предлагаемое «чудным барином» Нехлюдовым, было еще очень далеко от его социального решения, которое могло быть найдено только революционным крестьянством. Такого решения нет в «Воскресении», хотя Толстому, в конечном счете, было нужно именно такое, всеобъемлющее, революционное решение[98], от которого зависела судьба русского крестьянства.
Здесь, в «Воскресении», разумеется, нет того или другого, теоретического или практического, решения «земельного вопроса», а есть гениальная картина народной жизни, величественные, трогательные, трагические образы русских крестьян — в их труде, быте, психологии, морали. Здесь есть нравственное величие патриархального русского мужика и — его умирание.
Простота, естественность крестьянского трудового жизненного уклада и нищета, голод, упадок, которые гонят крестьян в город, — такими двумя сторонами открывается Нехлюдову современная русская деревня.
Для Толстого всякий мужик, попавший в город, а паче того в тюрьму, острог или на каторгу, — это несчастный изуродованный мужик.
Народные преступления, народ на каторге — эта тема не была новой для русской литературы.
«Записки из Мертвого дома» Достоевского открыли «каторжную» тему в русской литературе, они служили своеобразным ориентиром, эталоном не только для художников, но и для публицистов, законоведов, историков общественной жизни, когда им приходилось писать о каторге. Одна из любимейших книг Толстого — «Записки из Мертвого дома» — привлекала его таким качеством, которое он считал главным в искусстве, — «самобытным нравственным отношением автора к предмету» (т. 30, с. 19).
Однако между «каторгой» «Записок из Мертвого дома» и «каторгой» «Воскресения» легли четыре десятилетия, и нравственное отношение Толстого к предмету изображения — народу на каторге — стало иным, и определялось оно непримиримым, беспощадным осуждением виновников народной трагедии, виновников насилия над народом. Пафос толстовского образа «каторжного народа» — чужд идеализации, «романтизации» его нравственных качеств или исключительности и необыкновенности в моральном смысле — как положительном, так и отрицательном, что можно заметить в «Записках из Мертвого дома».
Возможно, в творческой истории «Воскресения» сыграла свою роль и другая замечательная книга о каторге — «Остров Сахалин» Чехова, напечатанная в 1895 году, как раз тогда, когда Толстой интенсивно работал над своим романом[99]. Точно документированное исследование и вместе истинно художественное произведение, «Остров Сахалин» по своему пафосу во многом сходен с «Воскресением». Главная мысль Чехова: каторга не исправляет преступника, а, извращая человеческую природу, ведет к полной утрате представлений о добре и зле, о нравственности и безнравственности. Да и как же может быть иначе, если «естественное и непобедимое стремление к высшему благу — свободе — здесь рассматривается как преступная наклонность…»[100].
Пафос «Воскресения» — в трезвом понимании и изображении гибельного, разрушающего действия тюрьмы и каторги, как орудий эксплуататорского государства, на народную нравственность, на человеческое достоинство.
4Толстой высоко ценил картину H. H. Ге «Христос перед Пилетом» («Что есть истина?») — ценил за «новое отношение к христианским сюжетам». Эта «новизна» — современность, злободневность — в том, что художник, отказавшись от исторических и мистических толкований христианской легенды, сумел найти в евангельском рассказе о жизни Христа «такой момент, который важен теперь для всех нас и повторяется везде во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека <…> с преданиями <…> насилия, подавляющего это сознание» (письмо к Дж. Кеннану от 8 августа 1890 года, т. 65, с. 140–141).
Эта «важная теперь для всех нас» борьба «разумного сознания человека» с «преданиями насилия» развертывается и на страницах «Воскресения».
Меньше чем за месяц до начала работы над будущим «Воскресением», 30 ноября 1889 года, Толстой написал: «Жизнь, та форма жизни, которой живем теперь мы, христианские народы, — delenda est, должна быть разрушена, говорил я и буду твердить это до тех пор, пока она будет разрушена. Я умру, может быть, пока она не будет еще разрушена, но я не один, со мной стоят сотни тысяч людей, со мной стоит истина. И она будет разрушена, и очень скоро» (т. 27, с. 534).
Та «форма жизни», которой живут теперь «христианские народы», то есть современный социально-политический строй европейских государств, — должна и будет разрушена потому, что внутренне мертва, потому что изжила себя как форма, всецело построенная на насилии и лжи, внутренней пустоте и призрачности.
Толстому открылась «даль» его романа, когда он понял, что «надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то — тень, то — отрицательное».
«Люди, составляющие правительство и богатые классы» (т. 35, с. 148), представлены в «Воскресении» как «тень», как то «отрицательное», в котором неразрывно связаны призрачность и мелочность. Все существование губернаторов и сенаторов, судей, прокуроров, адвокатов проходит в мелочной суете, в деятельности, лишенной содержания, ненормальной, уродливой и потому неизбежно превращающейся в призрак.
Торжественно, строго, значительно возвышаются над столом, покрытым сукном, фигуры судей. Они призваны служить правосудию, справедливости, решать судьбы людей. Но чем же заняты в этот момент их мысли? Председатель суда думает о предстоящей встрече с «рыженькой Кларой», «добрый» член суда погрузился в размышления о своих недугах, «строгий» член на грани отчаяния и утраты веры в жизнь (иронически комментирует автор) по причине угрозы жены оставить его сегодня без обеда.
В полумраке, тщательно оберегаемом от лучей солнца, «жалостно изнывает» бессильная и расслабленная княгиня Корчагина…
В мрачной комнате самого мрачного места России — Петропавловской крепости — предстает перед читателем начальник этой крепости, почти уже мертвый старик барон Кригсмут. Вставив свои «жесткие, морщинистые и окостеневшие» пальцы в «тонкие, влажные, слабые» пальцы «бескровного», с «безжизненными» глазами художника, сосредоточенно вертит он «блюдцем по листу бумаги». Руки судорожно двигаются, губы нервно шевелятся; они беседуют с душами умерших. Ощущение призрачности происходящего все сгущается, становится, как это ни парадоксально, физически ощутимым…
Столь же страшно и реально призрачен Топоров — «человек тупой и лишенный нравственного чувства» — символ, в романе Толстого, той формы насилия, которая была предельно абсурдной: насилия от имени веры, от имени того, кто положил в основу своего учения отрицание всякого насилия…
Все мелочное ничтожно, лишено содержания и потому неизбежно превращается в призрачное. Эта связь, эта закономерность сознательно заострена Толстым в «Воскресении» с использованием сатирических приемов. Пустота, мелочность и призрачность выявляются Толстым путем сопоставления с «положительным» — с имеющей глубокий смысл трудовой жизнью русского крестьянства, того крестьянства, которое, по словам Щедрина, «верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство»[101].