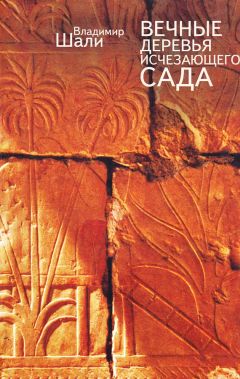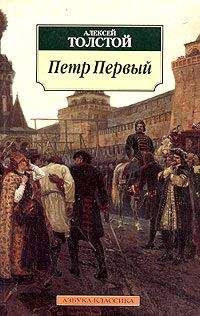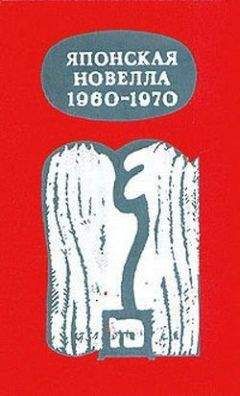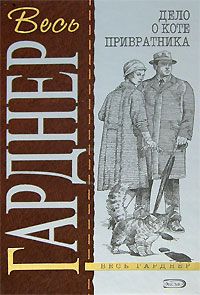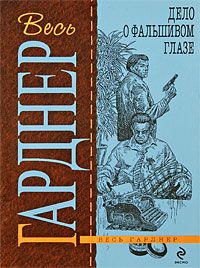Лев Толстой - Том 13. Воскресение
Но какова же роль Нехлюдова в «Воскресении»? Почему Толстой не расстается со своим героем на протяжении всего романа?
Место и роль Нехлюдова в «Воскресении» определяются значительностью переживаемого им перелома в понятиях о жизни и нравственных представлениях, перелома, с необходимостью влекущего за собой и коренное изменение всего жизненного поведения.
«Внутренняя перестройка всего миросозерцания» (слова Толстого), решительный отказ от изжитого уже прошлого, драматический разрыв с привычной средой во имя обретения смысла жизни — это была ситуация, которую Толстой пережил и продолжал переживать до конца дней, которая глубоко волновала его. И размышления, заключенные в «Исповеди», и идеи всей толстовской публицистики восьмидесятых — девяностых годов дали содержание миросозерцанию Нехлюдова. Образ мыслей Нехлюдова, в сущности своей, совпадает с образом мыслей самого Толстого. И когда речь идет об автобиографизме героя «Воскресения», надо иметь в виду прежде всего это совпадение в сфере идей, а отнюдь не личную подоплеку некоторых ситуаций и эпизодов биографии Нехлюдова. В этом смысле можно, без риска ошибиться, говорить о «перестроившемся» миросозерцании Толстого как прототипе «перестраивающегося» миросозерцания его героя.
Нехлюдов, внутренний мир которого «открыт» автору, а потому и читателю, наделен в романе особой, важной ролью — человека, непосредственно, живо, беспокойным сознанием и обостренным чувством воспринимающего мир внешний. Он оказывается как бы посредником между этим внешним, предметным миром и сознанием читателя. При этом собственное отношение Нехлюдова ко всему тому, что его окружает и входит в сферу его сознания, до предела обострено нравственной ситуацией «перелома», «пересмотра», «перестройки», с которой начинается движение романного сюжета. Истина жизни, которую в результате «перестройки» своего миросозерцания нашел Толстой, становится достоянием читателей «Воскресения» во многом благодаря этому свободному от иллюзий, ясному взгляду Дмитрия Нехлюдова, в душе которого уже «не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно». Главное в этом его взгляде — абсолютная, необычная, беспощадная острота видения, восприятия, оценки, лишенная, однако, — при всей своей «личностности», — случайного характера, напротив, освобожденная от какой-либо «случайности».
Но Нехлюдов, высказывающий заветнейшие идеи Толстого, вовсе не является авторским alter ego. Он наделен собственным художественным — а следовательно, социальным и психологическим — характером, подчиненным объективной логике существования и проявления; он живет вполне самостоятельной художественной жизнью. Взгляд на него Толстого — это взгляд художника-романиста.
Перелом в сознании и судьбе Нехлюдова, путь его к новой правде трактуется в многочисленных и все обогащающих содержание этого перелома, этой правды жизненных столкновениях, постоянных пересечениях пути главного героя с иными путями к истине, с иными представлениями и «верами». Эти иные пути, иные ответы на вопросы, столь страстно переживаемые Нехлюдовым, сталкиваясь и пересекаясь, позволяют «высветить» в личном опыте героя очень важный общий смысл. Отчаяние от невозможности и бесполезности такого действия вовне, которое коренным образом изменило бы весь уклад жизни, — это отчаяние разрешается в последней главе романа обращением к программе «внутреннего» действия, к Нагорной проповеди, к Евангелию. Это обращение в финале к этической программе христианства было его, Нехлюдова, личным ответом на вопрос о смысле жизни, ответом, значительность которого в общем содержании романа, конечно, невозможно отрицать. Но ведь роман «Воскресение» отнюдь не сводится к уяснению и возвышению нехлюдовской судьбы. Он сам, его суждения и поступки подлежат оценке и суду с точки зрения более высокой, чем его, нехлюдовская.
Прозрение, пережитое Нехлюдовым, с необходимостью влекло за собой осознание не только нравственной, но и социальной ответственности и отказ от «барской» бездеятельности, созерцательности, пассивности. Начинается безостановочное, беспокойное странствие Нехлюдова — странствие, «путешествие» в прямом смысле слова — по разным ступеням русской социальной лестницы и странствие, «хождение души по мытарствам». И тут обнаруживается, что Нехлюдов заключает в себе явное противоречие: несоответствие тех идей, которые отдает ему автор (идеи патриархального крестьянства), и его социальной, «сословной» природы. Это противоречие как бы накладывается на то раздвоение между «животным» и «духовным», которое было исходным при анализе Толстым нехлюдовской психологии, — накладывается, вытесняя и преобразовывая его. «Животная жизнь», жизнь только для себя, для своего комфорта, наслаждения — это и есть бытие «господ». Духовная жизнь отрицает такое бытие, духовная жизнь обращена к жизни народа, к ее смыслу и народной нравственности.
Для того чтобы преодолеть двойственность, разрешить противоречие, Нехлюдов должен был бы не только идейно и нравственно, но и социально переродиться. Но это ему не дано. Он остается как бы на перепутье. Ведь размышляя о возможности продолжения романа, о «второй части Нехлюдова», Толстой позднее записывает: «Его работа, усталость, просыпающееся барство…» (т. 55, с. 66).
3Все шире и шире — на путях его странствий — открывается перед Нехлюдовым смысл жизни народа, все больше и больше его личное существование и личные невзгоды заслоняются бытием народной массы, в котором заключена и, в конечном счете, только и может быть найдена истина.
Так страницы романа Толстого все больше и больше «населяются» людьми из народа, русскими мужиками. Их совокупность и создает тот многокрасочный, многоликий мир, общение с которым подымает дух Нехлюдова, наполняет его душу радостью и надеждой, спасает от отчаяния и тоски эгоистического существования.
Вторая часть романа завершается размышлениями Нехлюдова в вагоне по пути в Сибирь, вслед за Катюшей Масловой, об истинном большом свете (le vrai grand monde) — мире народной жизни. Эти размышления вызваны встречей с крестьянами, возвращающимися с заработков домой, в деревню. «И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир». Открытие этого нового мира особенно радостно Нехлюдову после мучительных, оскорбляющих человеческое достоинство и нравственное чувство хождений по петербургским чиновничьим кабинетам и светским гостиным, после поразившего его контраста кротких тружеников-крестьян, величественных своей простотой, естественностью, детскостью, — и нагло самоуверенного, насквозь искусственного, «выморочного» семейства Корчагиных.
В 1877 году С. А. Толстая записала знаменитые слова Толстого, определяющие глубинный смысл, особенную идею каждого из двух уже написанных романов, то есть «Войны и мира» и «Анны Карениной», и романа будущего, еще не написанного. «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль, — говорил Толстой. — Так, в «Anne Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа В смысле силы завладевающей»[93].
В этом различении Толстым двух проявлений «мысли народной» скрыт очень важный смысл.
В первом случае, говоря о мысли народной, Толстой разумеет народ, поднимающийся на борьбу и побеждающий в войне отечественной, национальной. Во втором случае речь уже идет об идее романа из жизни современного — страдающего, угнетенною крестьянства.
С. А. Толстая связывает в своей записи идею будущего романа («мысль русского народа в смысле силы завладевающей») с замыслом романа о переселенцах («…сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места»[94]). Идея эта, хотя она и могла связываться с таким замыслом, конечно, значительнее, глубже, «сила завладевающая» — его творческая, созидающая сила русского народа, русского мужика. Понятно, почему символом и воплощением «народной мысли» могла стать для Толстого «переселяющаяся» община, иначе говоря — община, освободившаяся от пут социальных (дворянина-землевладельца, кулака и т. п.) и политических (всех форм государственного вмешательства в ее жизнь), «общежитие свободных и равноправных мелких крестьян»[95].
Жизнь порабощенного и разоряющегося русского крестьянина последних десятилетий XIX века была, разумеется, очень далека от идеала крестьянской общины, соответствующего «точке зрения патриархального, наивного крестьянина»[96]. Но именно этот идеал был той высокой оценивающей меркой, которой мерил жизнь своего времени Толстой не только в публицистике, но прежде всего — в «Воскресении».