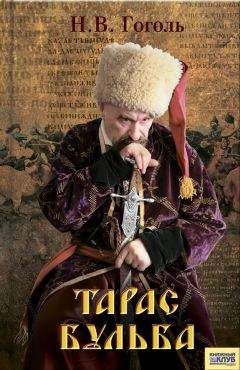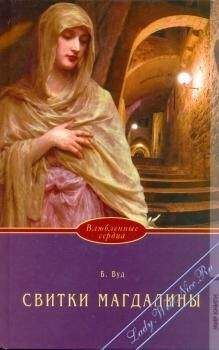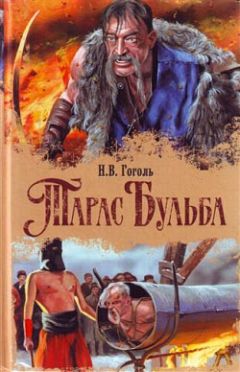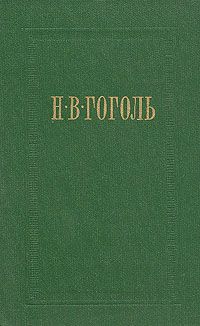Зинаида Гиппиус - Том 6. Живые лица
«Нет выбора, что лучше и что хуже…»
Нет выбора, что лучше и что хуже.
Покину ль я, иль ты меня покинешь –
Моя любовь стрелы острей и уже –
Конец зазубрен: ты его не вынешь.
«Ходит, дышит, вьется, трется между нами…»
Ходит, дышит, вьется, трется между нами
Черный человечек с белыми глазами.
Липой ли он пахнет, потом или сеном?
Может быть, малинкой, а быть может, тленом.
Черный ползунишка с белыми глазами,
Пахнущий постелью, мясом и духами,
Жертвочек ты ищешь, ловишь в водах мутных,
Любишь одиноких деток перепутных.
Жизнеописание Ники
«Нет, я не льстец!» Мои уста
Свободно Ника[100] славословят.
Ни глад, ни мор, ни теснота,
Ни трус меня не остановят.
Ты скромен, Ника, но ужель
Твои дела мы позабыли?
Преследуя святую цель,
Трудился с Филиппом[101] – не ты ли?
Ты победил надеждой страх,
Недаром верила Россия!
На Серафимовых[102] костях
Не ты ли зачал Алексия?
Не ты ль восточную грозу
Привлек, махнувши ручкой царской?
И пролил отчую слезу
Над казаками – в день январский?[103]
Толпы мятежные лились…
У казаков устали руки.
Но этим только начались
Твои, о Ник, живые муки.
Ты дрогнул, поглядев окрест,
И спешно вызвал Герра Витта…[104]
Наутро вышел манифест…
Какой? О чем? Давно забыто.
Но сердце наше Ник постиг.
Одних сослал, других повесил.
И крепче сел над нами Ник,
Упрямо тих и мирно весел.
С тех пор один он блюл, хранил
Жену, Россию и столицу
И лишь недавно их вложил
В святую Гришину[105] десницу.
Коль раскапризится дитя, –
Печать, рабочие и Дума, –
Вдвоем вы справитесь, шутя:
Запрете их в чулан без шума.
На что нам Дума и печать?
У нас священный старец Гриша.
Россия любит помолчать…
Спокойней, дети, тише, тише!..
И что нам трезвость[106], что война?
Не страшны дерзкие Германы.
С тобою, Ники, без вина
Победоносны мы и пьяны.
И близок, близок наш тупик
Блаженно-смертного забвенья,
Прими ж дары мои, о Ник,
Мои последние хваленья.
Да славит всяк тебя язык!
Да славит вся тебя Россия!
Тебя возносим, верный Ник!
Мы богоносцы – ты Мессия!
От здешних Думских оргий
На фронт вагонит Никс,
При нем его Георгий[107]
И верный Фредерикс[108].
Всё небо в зимних звёздах.
Железный путь готов:
Ждут Никса на разъездах
Двенадцать поездов.
. . . . . . . . . . . . . . .
На фронте тотчас слово
Он обратил к войскам:
«Итак, я прибыл снова
К героям-молодцам.
Спокойны будьте, дети,
Разделим мы беду –
И ни за что на свете
Я с места не сойду.
Возил сюда сынишку,
Да болен он у нас.
Так привезу вам Гришку
Я в следующий раз.
Сражайтесь с Богом, тихо,
А мне домой пора».
И вопят дети лихо:
«Ура! ура! ура!»
Донцы Крючков и Пяткин[109]
Вошли в особый пыл,
Но тут сам Куропаткин[110]
С мотором подкатил.
Взирает Ника с лаской
На храброго вождя…
В мотор садятся тряский,
Беседу заведя.
Взвилася белым дыбом
Проснеженная пыль
И к рельсовым изгибам
Запел автомобиль.
Опять всё небо в звездах,
И пробкой[111], как всегда,
Шипят на ста разъездах
Для Ники поезда.
К семье своей обратно
Вагонит с фронта Никс.
И шамкает невнятно:
«В картишки бы приятно» –
Барон фон Фредерикс.
«Буря мглою небо» слюнит,
Завихряя вялый снег,
То как «блок» она занюнит,
То завоет, как «эс-дек».
В отдаленном кабинете
Ропщет Ника: «Бедный я!
Нет нигде теперь на свете
Мне приличного житья!
То подымут спозаранку
И на фронт велят скакать[112],
А воротишься – Родзянку[113]
Не угодно ль принимать.
Сбыл Родзянку – снова крики,
Снова гостя принесло:
Белый дядя Горемыкин[114]
В страхе едет на Село.
Всё боится – огерманюсь,
Или в чем-нибудь проврусь…
Я с французами жеманюсь,
С англичанами тянусь…
Дома? Сашхен[115] всё дебелей,
Злится, черт ее дери…
Все святые надоели –
И Мардарий[116] и Гри-Гри[117].
Нет минуты для покоя,
Для картишек и вина.
Ночью, «мглою небо кроя»,
Буря ржет, как сатана.
Иль послать за Милюковым?[118]
Стойкий, умный человек!
Он молчанием иль словом
Бурю верно бы пресек!
Совершится втайне это…
Не откроет он лица…
Ох, боюсь, сживут со света!
Ох, нельзя принять «кадета»[119]
Мне и с заднего крыльца!
Нике тошно. Буря злая
Знай играет, воет, лает
На стотысячный манер.
Буря злая, снег взвихряя,
То «эн-эсом»[120] зарыдает,
То взгрохочет, как «эс-эр»[121].
Полно, Ника! Это сон…
Полно, выпей-ка винца!
В «Речи»[122] сказано: «спасен
Претерпевый до конца»[123].
Со старцем[124] Ник беседовал вдвоем.
Увещевал его блаженный: «Друже!
Гляди, чтоб не было чего похуже.
Давай-ка, милый, Думу соберем.
А деда[125] – вон: слюнявит да ворчит.
Бери, благословись, который близко,
Чем не министр Владимирыч Бориска?[126]
Благоуветливый и Бога чтит.
Прощайся, значит, с дединькою, – раз,
И с энтим, с тем, что рыльце-то огнивцем,
Что брюхо толстое – с Алешкою убивцем[127].
Мне об Алешке был особый глас.
Да сам катись в открытье – будет прок!
Узрят тебя, и все раскиснут – лестно!
Уж так-то обойдется расчудесно…
Катай, катай, не бойся, дурачок!»
Увещевал его святой отец.
Краснеет Ника, но в ответ ни слова.
И хочется взглянуть на Милюкова,
И колется… Таврический Дворец.
Но впрочем, Ник послушаться готов.
Свершилось всё по изволенью Гриши:
Под круглою Таврическою крышей
Восстали рядом Ник и Милюков.
А Скобелев, Чхеидзе и Чхенкели[128],
В углах таясь, шептались и бледнели.
Повиснули их буйные головки.
Там Ганфман[129] был и Бонди[130] из «Биржевки» –
Чтоб лучше написать о светлом дне…
И написали… И во всей стране
Настала некакая тишина,
Пусть ненадолго – все-таки отдышка.
Министров нет – один священный Гришка…
Мы даже и забыли, что война[131].
<Март 1916>
Вере
На луне живут муравьи
И не знают о зле.
У нас – откровенья свои,
Мы живем на земле.
Хрупки, слабы дети луны,
Сами губят себя.
Милосердны мы и сильны,
Побеждаем – любя.
29 апреля 1916
С.-Петербург
С лестницы
Нет, жизнь груба, – не будь чувствителен,
Не будь с ней честно-неумел:
Ни слишком рабски-исполнителен,
Ни слишком рыцарски-несмел.
Нет, Жизнь – как наглая хипесница:
Чем ты честней – она жадней…
Не поддавайся жадной; с лестницы
Порой спускать ее умей!
28 мая 1916