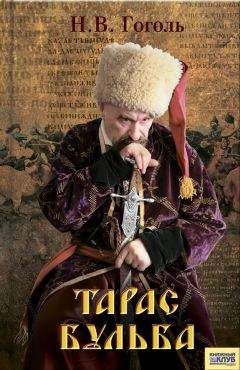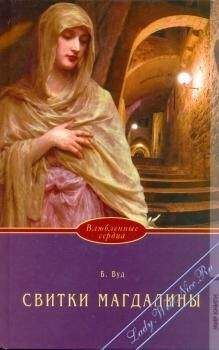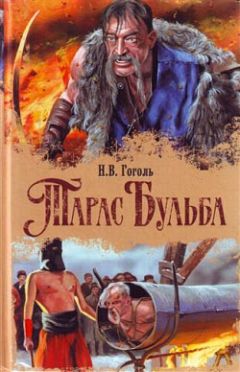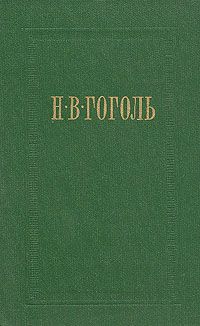Зинаида Гиппиус - Том 6. Живые лица
Амалии
Люблю тебя ясную, несмелую,
Чистую, как ромашка в поле.
Душу твою люблю я белую,
Покорную Господней воле.
И радуюсь радостью бесконечною,
Что дороги наши скрестились,
Что люблю тебя любовью вечною,
Как будто мы вместе – уже молились.
26 марта 1911
Париж
Сергею Платоновичу Каблукову
Темны российские узоры:
Коровы, пьянство и заборы,
Везде измены и туманы
Да Кукол Чертовых обманы…
Пусть! верю я, и верить буду
Наперекор стихиям – чуду,
И вас зову с собою: верьте!
Но верой огненной, – до смерти.
27 сентября 1911
С.-Петербург
«Оле»
Безвольность рук твоих раскинутых…
уста покорные молчат.
И сквозь ресниц полусодвигнутых
едва мерцает бледный взгляд.
Ты вся во власти зыбкой томности
и отдающегося сна…
О, не любовью, грешной темностью
моя душа уязвлена.
Пусть не люблю – нет сожаления,
пусть ты не любишь – всё равно,
меня жестокости и дления
пьянит холодное вино.
Как будто в дьявольское зеркало
взглянули мы… Оно светло,
и нас обоих исковеркало
его бездонное стекло.
Девочка
Я претепло одета:
Под капором коса.
Гулять – теперь не лето –
Иду на полчаса.
Погода-то какая!
Снежок хрустит, хрустит.
Далёко бы ушла я,
А няня не велит.
Схватиться бы за санки,
Скатиться бы с горы,
Да я с Феклистой няней,
А с ней не до игры.
Противная Феклиста!
Не хочет ничего,
Вот Ваню гимназиста
Пускают одного.
Твердит: «Ты не мальчишка,
Тебе нельзя одной».
А брат приготовишка
Гуляет, как большой.
Башлык наденет рыжий,
Коньки несет, звеня,
А сам и ростом ниже,
Да и глупей меня.
Смеется: «Я направо,
Не надо мне Феклист».
Ах, как досадно, право,
Что я не гимназист!
«Аркаша, Аркаша…»
Аркаша, Аркаша,
Во рту твоем каша,
Но что-то в тебе восхитительное.
Румян ты и сдобен,
Купидоподобен,
Как яблочко весь – ахтительное.
Поспорили ныне
Две лучших богини,
Любви твоей радостной жаждая,
И пламень твой страстный
Делить не согласны,
Всего тебя требует каждая.
Ты с ними уветлив,
Невинно кокетлив,
И спором весьма удручаешься.
Как шарушек каткий,
И нежный, и сладкий,
Меж ними приятно катаешься.
Настроил ты скиний,
Везде по богине,
Всё счастье богинь тебе вверено;
Но, схапав манатки,
Во все-то лопатки
Уехал Аркашенька в Верино.
Ответ ***
Всё так просто, всё мне мило,
Шмель гудит, цветет сирень,
Солнце ясно восходило:
Ясный будет нынче день.
Дятел ползает на ветке…
Нет, иду, не утерплю…
Знаю, знаю, ты в беседке,
Ты, которую люблю!
Ах, любовь всегда наивна
(Если истина она),
У поительно-призывна,
Драгоценно-неумна.
И не ходит по дорогам,
Где увял сирени цвет,
Где в томленьи слишком строгом
Грезим мы о слишком многом,
О любви, которой нет.
Ах, любовь проста, как роза!
Успокоит – опьяня.
Не стыдись, моя мимоза,
Благодатного огня.
Будем ясно жить на свете,
В сердце есть на всё ответ.
Любим мы, да любят дети,
А иной любви и нет.
Целоваться б неотрывно
Там, в беседке, у реки…
Я наивен – ты наивна,
Остальное пустяки.
Остальное всё ничтожно –
Если, впрочем, не шучу.
Но об этом осторожно,
Осторожно умолчу.
Тебе
В горькие дни, в часы бессонные
Боль побеждай, боль одиночества.
Верь в мечты свои озаренные:
Божьей правды живы пророчества.
Пусть небеса зеленеют низкие,
Помни мысль свою новогоднюю.
Помни, есть люди, сердцу близкие,
Веруй в любовь, в любовь Господнюю.
1 января 1913
На – крест
Стены белы в полуночный час.
Вас ли бояться, – отмены, измены?
Мило мне жизни моей движенье,
Биенье, – забвенье того, что было,
Знак переплета… Сойдутся ль, нет ли
Петли опять – но будет не так.
Тают мгновенья, пройти не хотят…
Рад я смене, пусть умирают.
Слов не надо – хотения смелы.
Белы стены поздних часов.
1914
Три креста
О, Бельгия, земля святых смертей!
Ты на кресте, но дух твой жив и волен.
И перед ним – что кровь твоих детей
И дым, и гарь воздушных колоколен?
На Польшу, близкую сестру, взгляни, –
Нет изумительней ее удела:
Безумием пылающие дни
Ей два креста судили: на одном
Ее истерзанное тело, –
Душа немая на другом.
Но сочтены часы томленья,
Господь страданий не забудет.
Голгофа – ради воскресенья,
И веруем, – да будет!
Завяжи
Если хочешь говорить –
Говори ясно.
Если вздумаешь любить –
Люби прекрасно.
Если делать – делай так,
Чтобы делу выйти.
Если веришь – дай мне знак,
Завяжи нити…
Серебряный день
А. О. Лурье
Люблю, люблю серебряные дни,
Без солнца – в солнце, в облачной тени.
Как риза брачная, свежа, ясна
Задумчивого моря белизна;
Колеблется туман над тихой далью,
А голос волн и ласковей, и глуше…
Такие я встречал людские души:
Овеяны серебряной печалью,
Они улыбкою озарены,
В них боль и радость вечно сплетены…
И любит буйная моя мятежность
Их детскую серебряную нежность.
Опрощение
Армяк и лапти… да, надень, надень
На Душу-Мысль свою, коварно-сложную,
И пусть, как странница, и ночь и день,
Несет сермяжную суму дорожную.
В избе из милости под лавкой спит,
Пускай наплачется, пускай намается,
Слезами едкими свой хлеб солит, –
Пусть тяжесть земная ей открывается…
Тогда опять ее прими, прими
Всепобедившую, смиренно-смелую…
Она, крылатая, жила с людьми,
И жизнь вернула ей одежду белую.
«Плотно заперта банка…»
Плотно заперта банка.
Можно всю ночь мечтать.
Можно, встав спозаранка,
То же начать опять.
Можно и с пауками
Играть, полезть к ним в сеть.
Можно вместе с мечтами
Весело умереть.
«Нет выбора, что лучше и что хуже…»
Нет выбора, что лучше и что хуже.
Покину ль я, иль ты меня покинешь –
Моя любовь стрелы острей и уже –
Конец зазубрен: ты его не вынешь.
«Ходит, дышит, вьется, трется между нами…»
Ходит, дышит, вьется, трется между нами
Черный человечек с белыми глазами.
Липой ли он пахнет, потом или сеном?
Может быть, малинкой, а быть может, тленом.
Черный ползунишка с белыми глазами,
Пахнущий постелью, мясом и духами,
Жертвочек ты ищешь, ловишь в водах мутных,
Любишь одиноких деток перепутных.
Жизнеописание Ники
«Нет, я не льстец!» Мои уста
Свободно Ника[100] славословят.
Ни глад, ни мор, ни теснота,
Ни трус меня не остановят.
Ты скромен, Ника, но ужель
Твои дела мы позабыли?
Преследуя святую цель,
Трудился с Филиппом[101] – не ты ли?
Ты победил надеждой страх,
Недаром верила Россия!
На Серафимовых[102] костях
Не ты ли зачал Алексия?
Не ты ль восточную грозу
Привлек, махнувши ручкой царской?
И пролил отчую слезу
Над казаками – в день январский?[103]
Толпы мятежные лились…
У казаков устали руки.
Но этим только начались
Твои, о Ник, живые муки.
Ты дрогнул, поглядев окрест,
И спешно вызвал Герра Витта…[104]
Наутро вышел манифест…
Какой? О чем? Давно забыто.
Но сердце наше Ник постиг.
Одних сослал, других повесил.
И крепче сел над нами Ник,
Упрямо тих и мирно весел.
С тех пор один он блюл, хранил
Жену, Россию и столицу
И лишь недавно их вложил
В святую Гришину[105] десницу.
Коль раскапризится дитя, –
Печать, рабочие и Дума, –
Вдвоем вы справитесь, шутя:
Запрете их в чулан без шума.
На что нам Дума и печать?
У нас священный старец Гриша.
Россия любит помолчать…
Спокойней, дети, тише, тише!..
И что нам трезвость[106], что война?
Не страшны дерзкие Германы.
С тобою, Ники, без вина
Победоносны мы и пьяны.
И близок, близок наш тупик
Блаженно-смертного забвенья,
Прими ж дары мои, о Ник,
Мои последние хваленья.
Да славит всяк тебя язык!
Да славит вся тебя Россия!
Тебя возносим, верный Ник!
Мы богоносцы – ты Мессия!
От здешних Думских оргий
На фронт вагонит Никс,
При нем его Георгий[107]
И верный Фредерикс[108].
Всё небо в зимних звёздах.
Железный путь готов:
Ждут Никса на разъездах
Двенадцать поездов.
. . . . . . . . . . . . . . .
На фронте тотчас слово
Он обратил к войскам:
«Итак, я прибыл снова
К героям-молодцам.
Спокойны будьте, дети,
Разделим мы беду –
И ни за что на свете
Я с места не сойду.
Возил сюда сынишку,
Да болен он у нас.
Так привезу вам Гришку
Я в следующий раз.
Сражайтесь с Богом, тихо,
А мне домой пора».
И вопят дети лихо:
«Ура! ура! ура!»
Донцы Крючков и Пяткин[109]
Вошли в особый пыл,
Но тут сам Куропаткин[110]
С мотором подкатил.
Взирает Ника с лаской
На храброго вождя…
В мотор садятся тряский,
Беседу заведя.
Взвилася белым дыбом
Проснеженная пыль
И к рельсовым изгибам
Запел автомобиль.
Опять всё небо в звездах,
И пробкой[111], как всегда,
Шипят на ста разъездах
Для Ники поезда.
К семье своей обратно
Вагонит с фронта Никс.
И шамкает невнятно:
«В картишки бы приятно» –
Барон фон Фредерикс.
«Буря мглою небо» слюнит,
Завихряя вялый снег,
То как «блок» она занюнит,
То завоет, как «эс-дек».
В отдаленном кабинете
Ропщет Ника: «Бедный я!
Нет нигде теперь на свете
Мне приличного житья!
То подымут спозаранку
И на фронт велят скакать[112],
А воротишься – Родзянку[113]
Не угодно ль принимать.
Сбыл Родзянку – снова крики,
Снова гостя принесло:
Белый дядя Горемыкин[114]
В страхе едет на Село.
Всё боится – огерманюсь,
Или в чем-нибудь проврусь…
Я с французами жеманюсь,
С англичанами тянусь…
Дома? Сашхен[115] всё дебелей,
Злится, черт ее дери…
Все святые надоели –
И Мардарий[116] и Гри-Гри[117].
Нет минуты для покоя,
Для картишек и вина.
Ночью, «мглою небо кроя»,
Буря ржет, как сатана.
Иль послать за Милюковым?[118]
Стойкий, умный человек!
Он молчанием иль словом
Бурю верно бы пресек!
Совершится втайне это…
Не откроет он лица…
Ох, боюсь, сживут со света!
Ох, нельзя принять «кадета»[119]
Мне и с заднего крыльца!
Нике тошно. Буря злая
Знай играет, воет, лает
На стотысячный манер.
Буря злая, снег взвихряя,
То «эн-эсом»[120] зарыдает,
То взгрохочет, как «эс-эр»[121].
Полно, Ника! Это сон…
Полно, выпей-ка винца!
В «Речи»[122] сказано: «спасен
Претерпевый до конца»[123].
Со старцем[124] Ник беседовал вдвоем.
Увещевал его блаженный: «Друже!
Гляди, чтоб не было чего похуже.
Давай-ка, милый, Думу соберем.
А деда[125] – вон: слюнявит да ворчит.
Бери, благословись, который близко,
Чем не министр Владимирыч Бориска?[126]
Благоуветливый и Бога чтит.
Прощайся, значит, с дединькою, – раз,
И с энтим, с тем, что рыльце-то огнивцем,
Что брюхо толстое – с Алешкою убивцем[127].
Мне об Алешке был особый глас.
Да сам катись в открытье – будет прок!
Узрят тебя, и все раскиснут – лестно!
Уж так-то обойдется расчудесно…
Катай, катай, не бойся, дурачок!»
Увещевал его святой отец.
Краснеет Ника, но в ответ ни слова.
И хочется взглянуть на Милюкова,
И колется… Таврический Дворец.
Но впрочем, Ник послушаться готов.
Свершилось всё по изволенью Гриши:
Под круглою Таврическою крышей
Восстали рядом Ник и Милюков.
А Скобелев, Чхеидзе и Чхенкели[128],
В углах таясь, шептались и бледнели.
Повиснули их буйные головки.
Там Ганфман[129] был и Бонди[130] из «Биржевки» –
Чтоб лучше написать о светлом дне…
И написали… И во всей стране
Настала некакая тишина,
Пусть ненадолго – все-таки отдышка.
Министров нет – один священный Гришка…
Мы даже и забыли, что война[131].
<Март 1916>