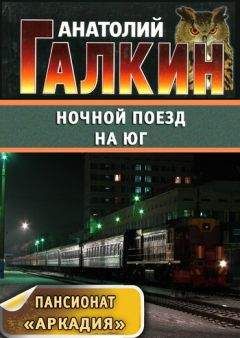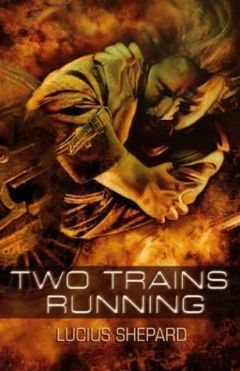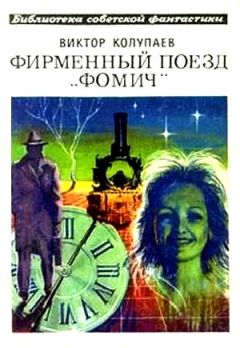Мария Романушко - Там, где всегда ветер
Мама мне потом пересказывала этот разговор, а я в душе просто помирала от смеха. Но то, что у Леонида Енгибарова всенародная любовь – это факт.
Я в этом сама убедилась.
Странности речи
Осенью, в октябре, я ездила с Фёдором в Киев. У него была командировка, связанная, кстати, с переговорами о новом назначении. Заодно мама просила поискать для меня врача. Ей кого-то там посоветовали.
Дело в том, что речь моя опять застопорилась. Речь моя вела себя волнообразно: после прилива лёгкости и активности общения – наступал неизбежный отлив, и чем выше была волна моей активности, тем стремительнее и глубже я с неё падала вниз, в какую-то жуткую эмоциональную яму, когда мне трудно было говорить даже с Маришей. Каждое слово доставляло мучения.
Поэтому я предпочитала молчать по целым дням, замыкалась в себе, и только книги были моей отдушиной. Даже не верилось, что летом я выступала на телевиденье, а всего месяц назад совершенно запросто общалась с Енгибаровым!… Сейчас же – как будто замок висел, сжимающий челюсти, какой-то жуткий спазм, не отпускающий ни днём, ни ночью. Ночью я порой просыпалась от боли в скулах, так сильно я сжимала во сне зубы. Хотела расслабиться – и не могла…
Даже мысль о том, что надо произнести что-то, доставляла мучения.
Фёдор ворчал: «Не захотела поступать в институт, так хотя бы пошла куда-нибудь поработать. Я в её годы…» Ну, и так далее. Мама плакала: «Куда же она пойдёт работать, если она слова сказать не может? Это мы виноваты, так всё запустили, её давно надо было лечить…»
В Киеве мы нашли этого врача-светилу, но к нему оказалась очередь на год вперёд…
А в ноябре Фёдор взял меня с собой в командировку в Харьков. Там тоже были хорошие врачи, о которых прослышала мама, и очередь оказалась не на год вперёд, а всего лишь на два месяца. В начале февраля меня обещали положить в научно-исследовательский институт, где лечили всякие нервные болезни каким-то новым методом. Он назывался – аутотренинг.
В Харькове
Два месяца, февраль-март, я провела в харьковской клинике. В клинике – сплошь молодёжь, мне семнадцать, я здесь самая молодая, а самому старшему – слегка за тридцать. Съехались со всей Украины, один человек даже из Одессы. Я его расспрашивала, не знает ли он моего отца. Подумала: а вдруг? Ведь всякое бывает… Но он не знает. И всё равно я смотрю на него как на родственника: ведь он ходит по тем же улицам, дышит тем же воздухом, что и мой отец…
Главный врач нашей клиники – известный профессор, доктор наук (эх, забыла его фамилию! столько лет помнила, и вдруг забыла!), он первый в нашей стране (тогда она называлась Советским Союзом) применил в практике лечения неврозов метод аутотренинга. Этот метод, как мне рассказали, пришёл к нам из Германии, и пришёл с помощью именно нашего профессора: он перевёл с немецкого книгу про аутотренинг и стал всячески пропагандировать его, изучать и применять.
Надо сказать, что в ту пору (середина шестидесятых годов прошлого века) в Советском Союзе было много противников этого метода. Классические врачи считали его шарлатанством: ну разве это лечение, говорили они, когда человек сидит в расслабленной позе и мысленно твердит себе: «Я спокоен, я совершенно спокоен… моё сердце работает нормально…» Разве это имеет какое-то отношение к медицине?! Разве человек может таким странным образом вылечиться?
Каждый день с нами проводились занятия аутотренингом. А это совсем не то же самое, что гипноз. Гипнозом меня уже лечили раньше, гипноз мне тоже нравился, хотя я никогда не отключалась, не засыпала, а просто лежала с закрытыми глазами и внимательно слушала, что говорит врач. Чем отличается гипноз от аутотренинга? Тем, что во время гипноза человек пассивен (вот лягу сейчас на кушеточку, и меня будут лечить), а во время аутотренинга, несмотря на расслабленную позу, – человек активен. Он берёт на себя ответственность за своё здоровье, делает активный выбор: болезнь – или излечение, и, выбрав излечение, – человек как бы внутренне разворачивается в эту сторону – в сторону света и спокойной уверенности, что всё будет хорошо. Главное – дать себе выздороветь, не мешать самому себе неправильными мыслями, а для этого нужно научиться мыслить светло и конструктивно.
В этой удивительной клинике с нами, пациентами, (хотя лучше сказать: обитателями, или: временными жильцами, а ещё лучше – желанными гостями) много общались: врачи, психологи. Хотя тоже хочется дать им другие имена: добрые хозяева, друзья, просто хорошие люди. Общались с каждым индивидуально, проводились различные тесты, много тестов, наверное, с их помощью искали наши внутренние поломки, о которых человек порой и сам не догадывается, или старательно скрывает от самого себя. Со мной никогда ещё так много, подолгу, заинтересованно не общались. Никогда ещё я так не интересовала своих собеседников, как хозяев этой клиники, интересовала не только как пациентка, но как личность. Я начала ощущать свою значимость. Мне перестало казаться, что я – уродка. Не знаю уж, аутотренинг помогал (и он, безусловно!), но ещё больше помогало именно общение. Только здесь я поняла, какой у меня был дефицит общения, как я изголодалась по нему!
Оказывается, я вовсе не молчунья, как я думала, и не отшельница. Оказывается, мне очень нравится общество, и беседы по душам тоже очень нравятся. Одним словом, жизнь в этой клинике была потрясающе интересной.
По вечерам, после ужина, все сходились в маленькой столовой, это был как бы кубрик на корабле, здесь стоял магнитофон (о, роскошь!) и все вечера напролёт крутили Высоцкого. Там я его впервые и услышала. И сначала он мне не очень понравился: непривычная хрипота, рваные ритмы – слишком уж было всё в этих песнях необычно. Но постепенно хриплый, нервный голос зацепил меня за сердце, да так сильно, что не отпускает уже больше тридцати лет…
А ещё в этом кубрике читали мои стихи. Я взяла в Харьков свою общую тетрадь со стихами, это, по сути, была моя первая книга. Ну и что, что рукописная, когда-то книги все были рукописными.
Моя книга называлась – «Окна настежь». Не помню, кому я дала её первому, кому-то из девушек в нашей палате. И книга моя пошла по рукам. А вскоре я стала получать заявки на персональные экземпляры. Мои соседи-друзья по клинике покупали в киоске за воротами клиники общие тетради и вручали мне с просьбой: «Пожалуйста, если тебе не трудно, перепиши мне свою книгу, только ничего не пропускай». Так что те два месяца в Харькове я занималась тиражированием своей рукописной книги. Не помню уж, сколько экземпляров получилось в итоге…
Можно сказать, что в семнадцать лет я узнала, что такое популярность.
Зима в тот год была самая настоящая. Скверик вокруг клиники был завален снегом, желающие продышаться гуляли по вечерам по хрустящим крахмальным дорожкам… Я тоже гуляла, и поражалась тому, что в Харькове снег пахнет совсем не так, как в Вольногорске (там он часто пах хлоркой). А харьковские метели пахли фиалками! Такой нежный, чистый, пронзительный аромат, который невозможно забыть…
Однажды снегу навалило особенно много, и я, выйдя на вечернюю прогулку, стала лепить из него. Просто снежную бабу не хотелось. И я вылепила скифскую бабу – женщину из скифских степей, с раскосым и печальным лицом… Обитатели клиники ходили потом на неё смотреть. Она стояла среди снегов такая задумчивая и живая… И долго не таяла. Мне кажется, она так и не успела растаять до моего отъезда, я её всё время реставрировала, на каждой прогулке…
А ещё там, в клинике, я выпускала стенную газету. Как же без этого? Были праздники – февральский, мартовский. Мальчик-лаборант купил по моей просьбе листы ватмана. У кого-то были зачитанные журналы, я вырывала из них картинки и делала разные коллажи.
А ещё я там, в клинике, рассказывала всем про Леонида Енгибарова. Так что многие из посетителей кубрика стали его поклонниками, даже не видя его. Но фильм-то «Путь на арену» видели почти все! Тогда такое было время: вышел фильм – смотрит вся страна.
Но смысл удивительных, необычных енгибаровских клоунад понимали не многие. А некоторые и вовсе считали его неправильным клоуном, или даже вообще не клоуном. Тогда фаворитом был Олег Попов, и набирал известность Юрий Никулин. Так что приходилось проводить разъяснительную работу среди народа. Мне это нравилось, я была вроде лектора-музыковеда, точнее – енгибароведа, хотя в отношении Енгибарова «музыковед» тоже подходит, потому что такого звучащего клоуна я никогда больше не видела…
Мели фиалковые метели, пел Высоцкий, дни, заполненные общением, бежали очень быстро, и я с удивлением заметила, что совершенно не скучаю о доме. Однажды меня навестил Фёдор. А в другой раз – Фёдор, мама и даже Маришка! Они приехали на машине, и бедную Маришу по дороге сильно укачало. Когда я увидела её, это худенькое, бледное, глазастое личико, я поняла, что по ней-то я очень даже соскучилась.