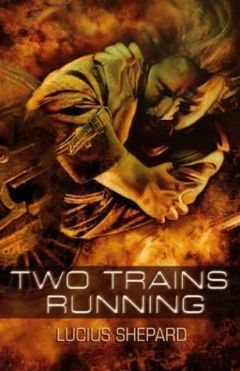Мария Романушко - Там, где всегда ветер
Лучше его спрятать в кавычки, под чадру, за штору образа. А почему страшно показать своё «я»?… Ответ прост: страшно быть не понятым. Страшно, что посмеются, повертят пальцем у виска («Она не такая, как мы! не такая, как все!») Не хочется, чтобы в ответ на откровенность сделали больно. Вот, говорю себе, природа и позаботилась: лишила тебя возможности открываться перед каждым встречным-поперечным. Повесила психологический замок на уста…
Тогда почему не страшно раскрываться в стихах? Да потому, что «я», облечённое в слова, это уже какое-то другое «я» – это тот самый образ, за который можно спрятаться. Который в состоянии прикрыть меня от насмешек и ухмылок мира. В стихах я совершенно открыта – но при этом стихами же и защищена. Вот так удивительно получается…
* * *
А потом Жорка учил меня проявлять плёнки и печатать фотографии. Потому что попросить у Фёдора фотоаппарат у меня ещё хватило смелости, но просить, чтобы он меня учил всяким фотографическим премудростям, это уже было за пределом моих возможностей. Жорку попросить было намного легче. Он прикатил на своём велике, привёз в двух литровых банках уже разведённый проявитель и закрепитель. Помог занавесить на кухне окно одеялом, установить на обеденном столе фотоувеличитель, красный фонарь, ванночки для проявителя, чистой воды для промывки фоток и закрепителя. И когда все домочадцы отправились спать, пожелав нам хорошей творческой ночи, я первый раз в жизни села за фотоувеличитель, а Жорка, как консультант-наставник – на табуретке рядом.
Пачка с фотобумагой, ножницы, пинцет для отлавливания фоток в ванночках… О, всё было так волнующе! Особенно в этом красном свете – как будто на сцене театра в каком-то волшебном спектакле… А мы – и актёры, и режиссёры одновременно.
Оказывается, у меня есть ещё одно любимое занятие в жизни!
А в углу кухни стояла большая кастрюля с компотом из сухофруктов, бабушка нам специально сварила, говорит: «Есть-то вы всё равно ночью не будете», – «Конечно, не будем, бабушка!» – «Ну, так хоть компотика попьёте, грушки там вылавливайте, очень вкусные…»
Так что к бабушкиному компотику мы много раз за ночь прикладывались.
– Жорка, грушу хочешь?
– А давай!
И вот, большом тазу с водой уже плавают мои первые фотки… Вот мои любимые тополя, вот Ани, вот сам Жорка с Алёпой. А вот и мои автопортреты… И вовсе я не мокрая курица, хоть и плаваю в тазу с водой! Очень даже человек. Такой, своеобразный… Особенно где с листьями-веером, и где с маминой косой. Вот удивительно: одному человеку (женского рода), чтобы хорошо получиться на фотографии, нужно, чтобы на него глядели, нужно красоваться перед фотообъективом и кокетничать во все лопатки. Оксане, например, или Томе. А другому человеку (то есть мне), нужно, чтобы на меня НЕ глядели. Тогда можно быть собой. Тогда можно узнать потом себя на фотографии, признать этот образ, а не рвать его тут же на мелкие клочья и не выбрасывать в мусорную корзину…
Вывод: больше всего на свете не люблю, когда на меня смотрят. (И когда прислушиваются, КАК я говорю.) Наверное, комфортнее всего я бы чувствовала себя в монастыре. Но не просто в монастыре (там всё-таки, наверное, людно), а где-нибудь в скиту, в полном одиночестве… И при этом принять обет молчания!
А как же любимый муравейник? Я же так люблю человеческий муравейник!… А это, между прочим, почти одно и то же, – неожиданно приходит мне в голову удивившая меня мысль.
В скиту ли, в толпе… Ни тут, ни там до тебя никому нет дела. И тут, и там ты в полном одиночестве…
– Знаешь, Жорка, я наверно уйду в монастырь, – неожиданно говорю я.
– В монастырь?… – изумляется он. – Ты что, в Бога веришь?
– Насчёт Бога не знаю… А в бессмертие души верю. Но не просто верю – я ТАК ЧУВСТВУЮ. Чувствую, что я не умру до КОНЦА. То, что у меня ВНУТРИ, умереть не может. Это же не материальное! А умирает только материя. Ведь так?
– Вроде так… – в раздумчивости сказал Жорка.
– А ещё верю, что в мире есть Невидимые Силы. Или это одна, но очень большая, всесильная СИЛА. Может, она и называется Богом?… И эта Невидимая Сила нам помогает, спасает нас. Вот как меня она спасла прошлым летом, когда я падала с причала в штормовое море… По всем законам физики я должна была упасть, на все сто процентов! Я уже начала это падение, оно было неминуемо – по земным законам. Но она – Невидимая Сила – удержала меня. Без её помощи мама бы одна меня ни за что не удержала! Мы бы вместе туда бултыхнулись… А КТО-ТО меня удержал! Значит, не время мне ещё умирать, Жорка!
– Конечно, не время, – соглашается он. – Только в монастырь-то зачем?
– Эх, Жорка! Хочется одиночества… Это же так приятно, когда никто на тебя не смотрит! Надвинуть низко платок, надеть чёрный широкий балахон, до самой земли… я бы ещё и чадрой с удовольствием занавесилась. Красота! Никто тебя не видит. Никто не делает замечаний, не читает нравоучений…
– А как же дети? Ты говорила, что хочешь, чтобы у тебя было много детей.
– Дети? Ну, не знаю… Может, дети у меня родятся в какой-нибудь другой жизни. А в этой жизни я замуж определённо не выйду.
– Почему? – живо интересуется Жорка, перекладывая проявившуюся фотографию из проявителя в воду, а потом в закрепитель.
– Понимаешь, – говорю я, старательно наводя фокус, – мне кажется, я могу полюбить только взрослого человека. Очень взрослого. Намного старше себя. Ну, в возрасте моего отца, наверное… А все взрослые люди уже женаты. И тот человек, которого я могу полюбить, тоже, наверняка, давно женат…
– С чего ты взяла?
– Так мне кажется. Предчувствие у меня такое.
– Ты что-то придумала себе… Даже не знаю, что тебе сказать.
– А ты и не говори ничего.
– Послушай, а у тебя способности! – хвалит меня Жорка, вытаскивая из закрепителя очередную фотокарточку. – И композиция везде хорошая, и освещение удачное. Ты давай, занимайся этим. Я, помню, когда начинал, у меня вначале полная ерунда получалась, почти всё в мусор шло. Редко что стоящее выходило. А у тебя, гляди, – один снимок лучше другого!
Мне приятны Жоркины похвалы, вообще Жорка хороший товарищ, можно сказать – моя лучшая подружка на сегодняшний день. Жорка нравится моим домашним и даже Фёдору, и я знаю, что у них, домашних, на уме. Но у меня ничего такого на уме нет. И у Жорки тоже. Разве нельзя просто дружить? Как два товарища. Как две подруги.
– Ещё компоту хочешь? – спрашиваю Жорку.
– Ну, давай!
– А то бабушка будет переживать, что мы тут всю ночь голодали. Сидели и голодали, и голодали…
Смеясь, мы поедаем вкуснющие бабушкины груши. Груша из компота – это одна из самых вкусных вещей на свете!
…И вот уже светлеет на окне одеяло, напитываясь утренним солнышком, надо сворачивать нашу фотолабораторию…
В больнице
У меня истощение нервной системы, и я первый раз в жизни оказываюсь в больнице. Старая областная больница в Днепропетровске. Неврологическое отделение, отдельный корпус в зарослях тенистого больничного парка. Первый этаж, лето, окна распахнуты…
В палате, кроме меня, ещё четыре женщины. В то время, когда мои одноклассники сдают экзамены в институты, – я глотаю горькие пилюли и слушаю (вынуждена слышать!) вызывающе откровенные рассказы моих сокамерниц, то есть – сопалатниц – про мужей-алкоголиков, про подлецов-любовников, про детей «наказание Господне», да про бесконечные аборты… Женщины вроде нормальные и даже весёлые, им нравится лежать-отдыхать от работы и домашней заботы, им плевать на то, что рядом – девчонка-только вчера школьница, и они всё полощут и полощут целыми днями своё грязное бельё…
Столько грязи о жизни, сколько я узнала за те больничные дни, мне больше не довелось никогда слышать. «Повезло» наивной семнадцатилетней девчонке прослушать лекции о правде жизни. Эта правда была мерзка и страшна. Выходило так (если верить этим тётушкам), что ни любви, ни верности, ни чистоты на свете нет. А есть только ложь и грязь.
А у окна лежала ещё одна женщина, совсем молодая, с бледным тонким лицом и тёмными длинными волосами. Красивая и молчаливая. Она умирала…
На днях её муж приводил под окошко детей: мальчика, лет шести, и девочку лет трёх – попрощаться. Он приподымал их по очереди на руках, и они смотрели в раскрытое окно на мать, которая лежала в беспамятстве… Наверное, они думали, что она спит. И не догадывались, что скоро она уснёт навсегда, и они её больше не увидят.
Днём она лежит без сознания, тихая, обессиленная, а ночью у неё страшные боли и она кричит на всё отделение, извивается на постели, сбрасывая одеяло и разрывая на себе больничную рубаху. Я закрываюсь одеялом с головой: страшно!… Рядом со мной умирает человек… Боже, как она кричит!… Палату заполняет толпа врачей и медсестёр. Одна из них приходит со шприцем и делает очередной обезболивающий укол, но бедняжке от него не легче…