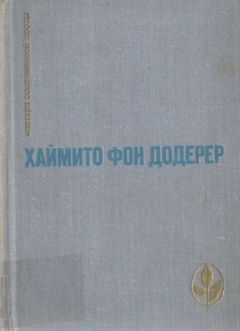Джуд Морган - Тень скорби
Энн опережает доктора, ибо, прослушав ее легкие, он начинает хмыкать, бормотать что-то невнятное и возиться с саквояжем. Энн берет его за запястье и хладнокровно спрашивает:
— Сколько еще?
Он несколько мгновений изучает ее, уже не пряча глаз. Потом качает головой.
— Не долго.
Энн выглядит, будто ей оказали огромную милость.
— Спасибо.
Итак, вопрос о переезде снимается с повестки дня; Энн возвращается к ожиданию. Что касается вопросов, то Шарлотта исчерпала ответы. Ответов нет. Последние несколько ночей она лежит без сна, вспоминая прошлое — не праздно, но с определенной целью; чтобы воздвигнуть опоры памяти. Она думает о Марии и Элизабет, о том, каким жутким было то время и как, тем не менее, его пережили и преодолели; казалось бы, перед ними урок, фундамент, на котором можно строить. Но теперь она знает, что все иначе. Прочный позитив — иллюзия. А ты думай обо всех наихудших переживаниях и страхах, обо всех, что тебя когда-нибудь терзали, от кастрюли, которую ты, кажется, поставила на огонь пустой, до грохота, который, несомненно, производит грабитель за дверью твоей комнаты, и до видения, что ад есть, а Бога нет. И представляй, что все эти страхи были оправданы, все и каждый. Так Шарлотта готовит себя к последнему удару.
Холеный доктор возвращается каждый час. Он кажется очарованным Энн, тем, как она лежит на софе и терпеливо ждет.
— Такая сила духа, сударыня, — шепчет он на ухо Шарлотте. — Право же, я… я, похоже, никогда не сталкивался с подобным.
— Да, — говорит Шарлотта с другого конца длинного тоннеля, — вы точно не сталкивались с подобным.
Море и беспорядочная игра солнечных лучей, грандиозная и ослепительная, за окном, затуманенным солью. Шарлотта держит Энн за руку и смотрит, как она уходит; гораздо спокойнее, чем Брэнуэлл или Эмили, тихонько отдается на милость последнего сна. Как жутко быть сведущим в подобных делах, сделаться знатоком предсмертных минут. Вскоре прерывистый пульс затихает, теплая рука превращается в случайное совпадение форм.
Наконец Элен склоняется над Шарлоттой, робко трогает ее за плечо.
— Отпусти, Шарлотта, — говорит она. — Дорогая моя, отпусти.
И Шарлотта действительно отпускает, отпускает на волю чувства: беспомощно, неловко отпускает весь девятимесячный запас слез. Но почему нет? Довольно скоро ей придется обратить сухой благоразумный взгляд в невообразимое будущее.
5
После слов, послесловие
Они сидят у открытых окон гостиной, подставив лица пахнущему сеном ветерку. Вокруг ног Шарлотты образовалась лужа солнечного света, и ощущается она именно как лужа, теплая и глубокая, так что в ней можно лениво поводить носками. Из соседней комнаты доносится детский смех. Солнечные лучи скользят по поверхностям длинной просторной комнаты — крышке фортепьяно, дельфтским[112] блюдам, фарфоровым вазам — со щедростью близкого друга: свет с этой комнатой, со всем этим домом всегда был в близких отношениях.
— Помнишь, — говорит Шарлотта, поеживаясь в кресле, — когда мы в первый раз встретились и я кое-что поведала тебе о своей жизни, а ты сказала, что никогда раньше не слышала подобных историй?
— Да, сейчас вспоминаю, — отвечает собеседница, — и мне теперь кажется, что это было довольно дерзко и нахально с моей стороны.
— Нет, нет, — говорит Шарлотта, слабо улыбаясь. — Потому что теперь, увидев, как ты живешь, я испытываю те же чувства. Твоя семья — мистер Гаскелл, такой добрый и внимательный, и твои девочки, которые поистине очаровательны не только в том смысле, что обычно приписывают детям, — и твой дом, в котором действительно чувствуешь себя дома. И благое дело, которым ты занимаешься в Манчестере, — кроме того, ты еще находишь время писать. Занятая, полезная и удовлетворенная… но прости, быть может, ты хочешь возразить против моего описания?
— Нет. Разве только скажу, что оно звучит лучше, чем я есть на самом деле. Но я действительно надеюсь, что довольна.
— Так вот, все это… кажется мне таким же далеким и нереальным, как жизнь краснокожего в типи[113]. И в свою очередь, заставляет задуматься, не слишком ли странное я создание…
— Каждый человек по-своему странен. Думаю, мы просто перестаем это замечать или приучаем себя к этому, когда взрослеем. В детстве каждый встречный кажется нам поразительным и нелепым созданием. Буквально на днях пришлось упрекать Джулию за то, что она разглядывала старьевщика, у которого был огромный «винный» нос. Но с другой стороны, я довольно хорошо понимала ее чувства, потому что на такой нос действительно стоит посмотреть — огромный, шикарно мясистый. Будь старьевщик быком, непременно выиграл бы приз на ярмарке. Дорогая моя, может, позвонить, чтобы принесли какого-нибудь тонизирующего напитка или воды со льдом? Или от потраченных на питье усилий нам станет только жарче, что скажешь?
— Жарче. Я прекрасно себя чувствую, сидя в этом кресле, спасибо. Шикарно, как нос старьевщика.
Шарлотта улыбается подруге, которая даже в глазах ребенка никогда бы не показалась нелепой. Она всегда была красавицей, и сейчас, перешагнув четвертый десяток, приобрела светящуюся округлую привлекательность: быть рядом с Элизабет Гаскелл — значит физически чувствовать себя лучше, чувствовать себя таким же свежим, залитым солнцем и уютным, как ее дом. Раз или два Шарлотта даже начинала сомневаться, не слишком ли ей хорошо, чтобы это было правдой. Но нет, это напоминает о себе прежняя придирчивая, подозрительная сторона ее характера, сторона, которая никогда не ждет от жизни добра. Видимо, ее немного сбивает с толку еще и это: возможность называть миссис Гаскелл «моя подруга». Конечно, у нее были Элен и Мэри Тейлор и даже — Шарлотта осторожно следует этой мысли, точно идет по скользкой тропинке, — Джордж Смит, но Элизабет — первая настоящая подруга, которую она приобрела, став писательницей и превратившись в странное изувеченное существо, оставшееся в живых. Она теперь последняя… последняя — кто? Нет слов. Нет, не сестра. Сестра — это во всех смыслах относительное понятие. А когда брат и сестры умерли, оставив тебя одну, ты больше не сестра. Она помнит, как смерти Марии и Элизабет вырвали ее из теплой середины, оставили незащищенной. Однако насколько острее Шарлотта почувствовала свою беззащитность, когда умерли Брэнуэлл, Эмили и Энн: она оказалась одна в необъятном пространстве, песчинка в небытие. Но, ах, сколько боли может вместить в себя эта песчинка!
На самом деле она не могла говорить об этом. Потому что ты либо делаешь это постоянно, живешь этим, держишься за это (и сначала Шарлотта хотела выбрать этот путь), либо отказываешься от этого. Шарлотта видела, как дыхание покидало их, одного за другим, — она же продолжала дышать, двигалась, смотрела, слушала и плакала, пока самые близкие люди не превращались у нее на глазах в окоченевшие трупы. И тебе надо или остаться там, в этих замкнутых адских мгновениях, или заставить себя жить где-нибудь в другом месте. Другими словами, в мире.
Но прежнее пристанище, конечно, никуда не исчезает. В любое время можно вернуться и почувствовать, как оно окружает тебя жуткой нежностью: оставайся здесь, оставайся, потому что здесь все остановилось, право же, разве нет? Оставайся.
— Знаешь, я рада слышать, что Великая выставка[114] не произвела на тебя впечатления, — говорит миссис Гаскелл, отмахиваясь от пчелы — манчестерской пчелы, крупной и напористой. — Такое впечатление, что все мы чуть не лопаемся от гордости за нее.
— Я не говорила, что она не произвела на меня впечатления, — возражает Шарлотта. Она осознает эту свою неуклюжую, скрупулезную, педантичную манеру, но ничего не может с ней поделать. Вот в чем преимущество знакомства с миссис Гаскелл, которая не возражает против этого, которая любит с головой окунаться в беседу, а не плескаться на мели. — Скорее, эта выставка показалась мне настолько размашистым, шумным чествованием вещей — да, многие из них были чудесными и хитроумными, но все-таки вещами, — словно она первая ласточка времени, когда останутся только вещи и не останется людей. И все будут вполне этим довольны.
О, но это еще не все. В Лондоне она была гостьей Джорджа Смита и его семьи, и именно мистер Смит водил ее на выставку. Едва завидев Хрустальный дворец[115], победоносно сверкающий над Гайд-парком, Шарлотта пришла в ужас. Великий Стеклянный город. Брэнуэлл, Двенадцать и детский кабинет прекрасно, но пугающе ожили. От Джорджа Смита потребовалась вся его спокойная учтивость, чтобы Шарлотта не закричала от страха и не бросилась наутек. Внутри оказалось лучше, хотя и не очень хорошо. Товаров, собранных со всего мира, было такое множество, что разбегались глаза, но в то же время возникала мысль: «И это все?» Зажим для галстука на паровом ходу? Но ведь изобретательность и находчивость, вышедшие из-под контроля, как известно, могут привести к своего рода помешательству. Ей почудилось или эта стеклянная крыша на самом деле взмывает настолько высоко, что под ней оказываются облака? А в это время гигантское одиночество, превращающее ее в карлика, и одна-единственная нужная вещь, противостоящая всему этому изобилию.