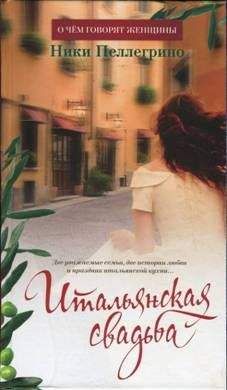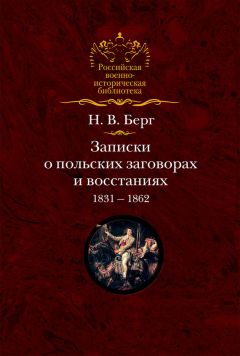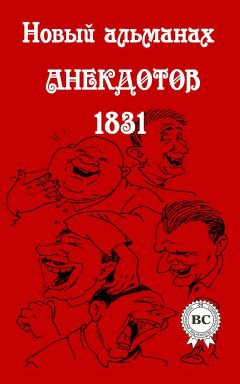Гор Видал - 1876
— Я завтра уезжаю, — сказал я ему. — Попрощайтесь за меня с госпожой Гарфилд…
— Только если вы передадите мои нежные чувства своей дочери. — Искривленная рука медленно потянула меня к себе, и его прекрасные глаза посмотрели на меня сверху.
— С удовольствием. — Не знаю уж, какая клеточка памяти вдруг шевельнулась, но я не только вспомнил, но и произнес преследующую меня строчку: — Brevis hic est fructus HomuÛis[65]
Гарфилд нахмурился, выпустил мою руку.
— Гораций?
— Нет. Лукреций.
— Я должен ответить? Ну что ж… — Гарфилд замолчал, покачал головой. — Боюсь, вся моя латынь осталась дома, в библиотеке. Не могу ничего вспомнить, кроме Gaudeamus igitur[66]. Подойдет?
— Почему бы и нет? Это всегда уместно.
Когда Гарфилд ушел, мы с Нордхоффом так и не угомонились и продолжали пить.
Незадолго до полуночи я добрался до своего номера, взял vase de nuit[67] и освободился и от вина, и от обеда.
Я трезв, утомлен, встревожен. Как жить дальше? И зачем?
Глава пятнадцатая
1
Вопреки тому, что нередко драматически именуется «здравым смыслом», я разрешил Эмме остаться в доме Сэнфорда на Пятой авеню со мной в качестве своего рода компаньонки.
Думаю, что мы поступили правильно. И сделали, конечно, доброе дело. Сэнфорд едва не разрыдался, умоляя нас к нему переехать. Он совсем растерян. Столкнувшись внезапно с настоящим горем, подлинной трагедией, он больше не пытается ничего изображать. Его бросает из мрачной молчаливости в неестественную болтливость; того хуже, он то и дело отводит меня в сторону и говорит, как Дениз была мне предана, как звала меня умирая. Конечно, это повергает меня в ужасное состояние: у меня колотится сердце, повышается давление, слезы текут по лицу, хотя я вовсе не плачу, — явление явно возрастное, болезненное. Когда мы собираемся втроем, имя Дениз почему-то не упоминается. Но когда я остаюсь наедине с Эммой или Сэнфордом (с ним, к счастью, нечасто), мы не говорим ни о чем другом.
В первую ночь в сэнфордском доме Эмма пришла в мою спальню, которая отделена от ее спальни очаровательной крохотной гостиной с серыми шелковыми стенами à la Pompadour l.
Эмма бледна и апатична. Хотя я не хочу знать никаких подробностей, она пытается рассказать мне все.
— Я никогда не видела, как умирают люди, папа.
— Но твой свекор…
Эмма нетерпеливо отмахнулась.
— Он был стар. Кроме того, нас не было там… в комнате… как… — Она замолчала. Увидела свое отражение в зеркале напротив моей постели. Быстрым движением откинула упавшие на глаза волосы, и я впервые увидел в этой ослепительной золотисто-каштановой массе белые волоски. Я почувствовал себя так, словно совершил вероломство, заметив то, что нельзя было замечать.
— Все-таки мы оба там были. С ней рядом. Мне кажется, она не мучалась. Когда начались боли, перед самым концом, сестра дала ей хлороформ. Сэнфорд добр. Я думаю, он любит Дениз. То есть любил. По-своему, конечно. — Эмма говорила бессвязно, но решительно. Точно выступала в суде, где нужно говорить все, как бы ужасно это ни было.
Я нарочно перешел на французский, полагая, что это облегчит ее излияния, но она, точно отбывая наказание, продолжала говорить по-английски.
— Как она держалась… ну, перед этим? — спросил я.
— Прекрасно. Она никогда так восхитительно не выглядела. И хорошо себя чувствовала. Накануне того дня, когда начались схватки, мы поехали в Саванну. Она захотела купить цветы. Там есть оранжерея. Ты когда-нибудь видел азалию?
— Не помню, чтобы нас знакомили. Нет. — Неуместная шутка. Впрочем, уместными они уже не будут.
— Она любила азалии. Схватки начались рано утром. Она кричала. Разбудила нас всех. С ней была сиделка. Дениз запаздывала. На неделю. Может быть, даже на две. Вот тогда я начала волноваться. И Сэнфорд тоже. Но Дениз оставалась спокойной. Лишь однажды, говоря о ребенке, она вдруг сказала: «Мне кажется, он раздражен. Он уже такой взрослый». И все. Совсем не так, как в Ньюпорте. Никакой паники. Слава богу. Когда приехал доктор, она была без сознания. Он сделал операцию… спас ребенка., и вот…
Эмма очень прямо сидела на стуле возле моей постели, намеренно не поднимая глаз на свое отражение в зеркале.
— Что же будет теперь? — прервал я молчание.
— О… теперь. — Она покачала головой, как бы давая понять, что никакая жизнь теперь невозможна. — Не знаю. Ты видел Сэнфорда. Слышал его. Я должна остаться, чтобы помочь ему. Во имя Дениз. Он рухнул.
— Мужчины не так сильны, как женщины.
Эмма посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом. Кивнула.
— Ты прав, папа. Поэтому мы останемся, пока он не придет в себя.
— А Джон?
Эмма почти улыбнулась.
— Нет никакого Джона. Похоронная служба по княгине д’Агрижентской откладывается на неопределенный срок.
— И что же, — сказал я, пожалуй, бестактно, — мы будем делать?
— Это очень плохо, да?
— Это очень плохо, — подтвердил я. — Тилден не стал президентом. А я — американским посланником во Франции.
— «Геральд»…
— Джейми покидает Америку. Навсегда.
— Из-за этой истории с кнутом? Очень забавно. — Эмма наконец улыбнулась; нормальная жизнь требует нас к себе.
Вот уже несколько недель кряду я предпринимаю настойчивые и отчаянные попытки вернуться к нормальной жизни.
— Все кончено, Чарли. Ничего не осталось. — Джейми повторял это, как рефрен, когда мы сидели за его постоянным столиком в баре «Хоффман-хаус». Даже появление неизменно элегантного таможенного инспектора нью-йоркского порта только на мгновение отвлекло Джейми от мрачных мыслей.
Артур похвалил мои статьи о выборах.
— Благодаря вам я словно сам присутствовал в Капитолии.
— Вы вполне могли быть там, Чет. Однако вы предпочли прятаться в отеле «Уормли». — К Джейми ненадолго вернулась его обычная манера говорить с издевкой.
Однако Артур вовсе не чувствовал себя оскорбленным.
— Боюсь, что вы меня переоцениваете. Я сидел здесь все это время, налегая главным образом на портвейн.
— Будьте осторожны, Чет. Хейс собирается снять с вас скальп.
Этот загадочный non sequitur Артур оставил без внимания.
— По слухам, в Вашингтоне воцарилась аскетическая администрация.
— Тем больше оснований бежать отсюда, — мрачно прокомментировал Джейми, смахивая тыльной стороной ладони жемчужинки абсента, всегда поблескивающие на его усах.
— Один мой приятель только что обедал в Белом доме; он рассказывает, что вода лилась как вино.
Мне было приятно услышать похвалу Артура моим статьям в присутствии Джейми. Однако все это уже бессмысленно. Я могу писать для «Геральд» из Парижа, как я писал для «Ивнинг пост», однако на эти гонорары не разгуляешься.
Я продолжаю свой обход Нью-Йорка.
На второй день я зашел к Брайанту в редакцию «Пост». Старик стал совершенно прозрачным от старости, но вся его хватка при нем. Я выслушал еще одну порцию похвал в адрес моих статей о выборах.
— Я полагаю, вы скоро отбываете в Европу? — спросил он.
— Да. Если не найду, чем заняться здесь.
Г олова библейского пророка повернулась ко мне с видимым любопытством.
— Вы хотите жить среди нас?
— Я хочу жить, дорогой Брайант. Для этого я должен писать.
— Но вы наш постоянный и высоко ценимый европейский корреспондент.
— Признателен. Однако у меня дочь и двое внуков, я должен их кормить. — Я высказался без обиняков.
— О, дорогой мой. Понимаю. Если бы только Тилдена выбрали…
— Его выбрали. Просто не сделали президентом. Вы, конечно, голосовали за него?
В центре синайского куста вспыхнула улыбка.
— Я никому не рассказываю, за кого голосую. Что же касается газеты…
— Она поддержала Хейса.
— Это достойный человек. Похоже, он создает отличный кабинет министров. Он взял Карла Щурца…
— А также мистера Ки. — Часть сделки в отеле «Уормли» состояла в том, что пост министра почт (наиболее обильный источник должностей в стране) достанется демократу. Хейс выбрал сенатора-демократа от штата Теннеси Дэвида Ки.
— Ну… — Брайант смотрел куда-то вдаль поверх моей головы.
Мы договорились, что, пока я в Нью-Йорке, я буду писать на различные темы, представляющие интерес для публики. Вернувшись в Париж, я возобновлю свои столь высоко ценимые корреспонденции, если, конечно, не умру от голода. Несмотря на очевидное неприличие нашего пребывания в доме Сэнфорда, оно, должен признаться, спасло нам жизнь, потому что, несмотря на год тяжких трудов, у меня сейчас ровно столько денег, сколько их было в тот момент, когда я сошел на нью-йоркский берег; нет только тех перспектив, какие были тогда.
На прошлой неделе я обедал на Грамерси-парк у Тилдена. Присутствовали Биглоу, Грин и Пелтоны; все остальные придворные, похоже, куда-то исчезли. У входа больше не дежурит полицейский.