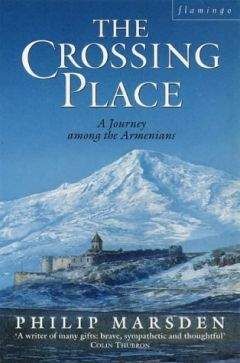Джойс Кэри - Радость и страх
И когда после недели предварительной ревизии выясняется, что долги Бонсера поглотили "Масоны" и что для обеспечения дальнейшего кредита потребуется даже Амбарный дом, она отказывается выслушивать советы юриста и разбираться в счетах, заявляет, что от своего не отступится, а капитал найдет в другом месте.
Однако никаких шагов для этого не предпринимает. Живет изо дня в день по заведенному порядку, стала еще чуть строже, чуть беспокойнее. Целыми днями обходит гостиницу, высматривая пыль, а вернее, просто чтобы еще раз увидеть свои владения, которые теперь, когда им грозит раствориться в банкротстве, приобрели для нее новую, щемящую прелесть.
Она спешит из комнаты в комнату, а когда чуть не бегом поднимается по лестнице, у нее начинается такая боль в сердце, что она опускается на первый попавшийся стул в верхнем коридоре.
И, прижав к сердцу руку, чувствуя, как боль отпускает рывками, точно удаляется прыжками какой-то злобный хищник, хорек или ласка, она смотрит в окно на новые постройки Роджера, сверкающие стеклом и бетоном в лучах утреннего солнца, замечает, что ивы вокруг бассейна уже переросли дома, и два чувства - торжество и отчаяние - разрывают ее на части.
Роджер, которого она так не любила, погиб во время воздушного налета, но его постройки теперь - ее гордость. Не забыть ей того дня, когда к ним приезжала такая симпатичная молодая женщина, чтобы сфотографировать их для "Архитектурного обозрения". Номер этого журнала, в котором помещены снимки, лежит на ее рабочем столике. Из него она узнала, что ее ресторан отличают чистота линий и классическое благородство пропорций при полном отсутствии какой бы то ни было претенциозности.
Но радость от созерцания этого шедевра вызывает такую тревогу, что она, забыв о боли, снова вскакивает на ноги. "И о чем думает этот несчастный юрист? Надо сейчас же написать, объяснить".
А на ночь она задвигает засовы на дверях и окнах, чтобы не пустить в дом врагов - не только банкиров, кредиторов, юристов, судебных исполнителей, но и весь мир, посягающий на ее веру, на дело ее рук.
Отсюда один шаг до старческого безумия, порой заставляющего почтенные супружеские пары запираться в доме и, пока живы, принимать пищу только через щель почтового ящика; а потом полисмен находит их высохшие трупы, погребенные под грудами старых газет, среди мебели, затянутой паутиной и пылью.
125
И вдруг вся картина меняется. Дороги, перебирая старые костюмы Бонсера перед тем, как отослать их в комитет помощи беженцам, нашла ключ с номерной биркой. Ключ оказался от сейфа в одном из лондонских хранилищ, абонированного на имя Бромли, а в сейфе было обнаружено на две тысячи фунтов драгоценностей, мешочек с золотыми, трое золотых часов, связки писем от женщин и несколько порнографических игрушек. Нашлись там и документы на имя Бромли, из которых явствовало, что Бонсер под этой фамилией имел счета в трех банках, на общую сумму свыше четырех тысяч фунтов. Всего этого хватило на уплату личных долгов, и несколько сот фунтов еще осталось. Правда, на покрытие перебора по текущему счету этого мало, но теперь оказывается, что за пять недель, прошедших с выборов, банк - с помощью некой таинственной силы, действовавшей вопреки правительственным речам, казалось бы подтверждающим худшие опасения насчет всеобъемлющей национализации и опрометчивого экономического эксперимента, - оправился от своих страхов. Возможно, он просто примирился с неизбежным. Он соглашается продлить Табите кредит, а значит, дает ей возможность сохранить "Масоны".
Все поздравляют Табиту, но она, похоже, не столько радуется этой победе, сколько задыхается под бременем новых забот. И Амбарный дом и отель требуют ремонта, она заказывает новые ковры, драпировки и горько жалуется на дороговизну и непомерные требования рабочих.
Только старый Гарри безоблачно наслаждается возвращенным ему ощущением покоя и уверенности в завтрашнем дне. Он умиляется: "Очень у тебя здесь уютно, Тибби, и Дороги так о нас заботится. Просто не знаю, что бы мы без нее делали". Он сентиментально вздыхает о прошлом: "У нас было счастливое детство, Тибби. Хорошее было времечко".
Свое облегчение, свою радость по малейшим поводам он выражает с простодушием, которое называют ребяческим, потому что в нем нет никакой задней мысли. Он что-то чирикает себе под нос, ни с того ни с сего начинает смеяться, а вечером растирает перед камином свои костлявые, сведенные ревматизмом колени. "Славно горит, жарко. Да, повезло тебе с Дороти. А тебе и всегда везло, из всех передряг выходила целехонька".
О Нэнси он забыл, как и обо всех пятидесяти последних годах своей жизни. Прошлое обрывается у него за спиной, так что он витает в воздухе, как осенний лист, подгоняемый ветром, греясь в редких теплых лучах.
И Табита рада, что не слышит имени Нэнси. Фрэзер, когда приезжал как-то в гости, рассказал, что Данфилдская компания дышит на ладан. "Так отрадно сознавать, что в случае чего Нэн найдет приют в Амбарном доме". На это Табита не ответила. Очень уж досадила ей Нэнси тем, что не пишет, что даже не приехала на похороны деда. "Если она не может вести себя по-человечески, чего ради я буду о ней волноваться? Успею узнать все, что нужно, когда эта нелепая компания пойдет ко дну".
С окончанием ремонта досада ее растет - нечем занять свои мысли. "Нет, это что-то невозможное. У готтентотки и то больше чувства ответственности. Ну, о чем она думает? И что творится в Данфилде?"
Газеты полны сообщений о трагедии демобилизованных. Один ограбил магазин, чтобы расплатиться за жену - во время войны она залезла в долги; другой покончил с собой, потому что прежний его наниматель умер и должность его упразднена.
"Ну, этот с собой не покончит, слишком высокого о себе мнения. Нельзя так плохо думать о людях. И Нэнси ни за что не признает, что он загубил ее жизнь. Наверно, она и голосовала за социалистов, потому что муженек был в обиде на старое правительство, чего-то оно ему недодало".
С каждым днем она все сильнее негодует на неблагодарность и безрассудство внучки. "Раз она мне не пишет, я-то и подавно не стану ей писать. Даже думать о ней не стану".
Но сон у нее совсем разладился, и даже во сне ее мучит страх, и просыпается она испуганная, с мыслью: "Не пожар ли в доме?" Старой Дороти, когда та приносит ей утренний чай, она говорит: - Писем, конечно, нет... А-а, это не письма. Счета и проспекты я не называю письмами.
Однажды она просыпается еще затемно с громким криком: "Ой, не надо!" Ей чудится, что произошло что-то страшное, что Нэнси для нее погибла, что она никогда больше ее не увидит.
Она встает, вся дрожа, думая, не сон ли это был. Ей ничего не снилось, просто что-то запечатлелось в сонном мозгу. Или вспомнилось? А потом она гневно одергивает себя: "Глупая ты старуха, вечно чего-то боишься". Но лежать в постели ей невмоготу. Ужас не отпускает ее, никакими доводами его не прогнать.
Ей страшно не потому, что она старая, а потому, что много страдала. Она одевается поспешно, точно ее ждет срочное дело, а потом всего лишь бродит по комнате, от стула к стулу, задерживается у окна, глядя с нетерпением на медлительный рассвет, на изгороди, деревья, надворные постройка, которые видятся еще смутно, как образы, только наметившиеся в чьем-то отягченном печалью воображении.
Ее тянет выйти в темный сад, но она боится потревожить Дороти, спящую наверху, или кого-нибудь в отеле. Ее держит в клетке долголетняя привычка считаться с удобствами окружающих, врожденное чувство справедливости.
Но в половине седьмого Дороти, полусонная, спускается по скрипучей лестнице из мансарды и с удивлением видит, что ее хозяйка, уже совсем одетая, поджидает ее в коридоре. - Я попью чаю, Дороти, как только он у вас будет готов. У меня сегодня очень много дела. - И тут же принимается выдумывать, чем нужно заняться: пересчитать серебро, проверить постельное белье. А сама тем временем уговаривает себя: "Это был кошмар, а кошмаров в жизни не бывает". Собственный опыт тут же напоминает ей, что кошмары все же бывают. И с ощущением человека, действующего поводе сновидения, она в то же утро попозже оказывается у телефона и звонит в Данфилд-отель. Ей отвечают, что миссис Паркин больше в отеле не прожирает, она живет в домиках возле аэродрома. Что-нибудь ей передать?
Но Табита, однажды дав волю страху, теперь и вовсе перепугана до крайности. Она боится любых новостей. Она говорит, спасибо, это неважно, а через полчаса уже едет в Данфилд в такси. И шофер, слыша, как она бормочет: "Глупая, глупая старуха!", думает: "Эх, бабуся разнесчастная, совсем, видно, спятила. Пора на тот свет".
В отеле Табите показывают дорогу, в конце которой на ржавой проволочной сетке криво подвешена потрескавшаяся от солила вывеска: "Самолеты Данфилд. Рейсы в Европу круглые сутки".
За полем небольшой ангар, фюзеляж без крыльев и шикарная двухместная машина; ближе к дороге, за низкой растрепанной изгородью, три домика среди целого озера жидкой грязи, качающей на волнах капустные очистки и увядшие стебли фасоли - все, что осталось от убранного огорода.