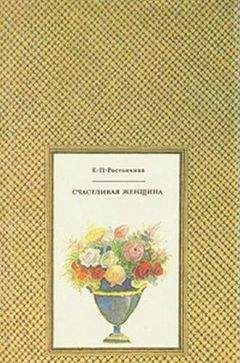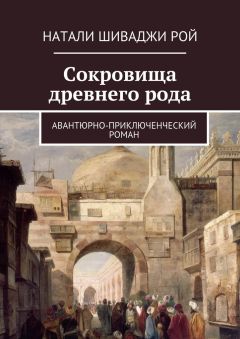Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
— И многим ты говорил про любовь?
— И еще кое-что… — решил он подразнить ревнивую зазнобу. — Шы намэ талыштэ? Верно сказал?
— Можно догадаться.
— Мне порой чудится, будто я давным-давно толкую с тобой по-бурятски, и живем мы на степном гурту, в войлочной юрте…
— В Еравне ни одной юрты не осталось, все давным-давно в избах живут.
— А жаль… Я бы в юрте с тобой пожил, попил бы арзу[101], ара-кушку[102] молочную. А вообразим, что это юрта… Очаг разведем, дыру в потолке прорубим, чтобы дым валил, настелим войлочных потников под божницей, будем полеживать и… — неутолимый Елизар обнял девушку.
— Успокойся, — Дарима заслонилась ладошками.
— Красиво: белая долина — сагаан гоол… ночь… в отдушину над очагом смотрит белая луна… сияют звезды… и мы в юрте вдвоем, и я играю на хуре[103]… Вот так, — прыгнул с кровати, сорвал со стены пошарканную гитарешку, на которой изредка бренчал и, подыгрывая, с нарочитой печалью запел:
Синий-синий иней лёг на провода,
В небе темно-синем синяя звезда…
— Нет, — пихнул гитару, — я бы пел по-бурятски, и горел бы костерок в очаге, и мы полеживали бы на белом войлоке, и…
— Одно у тебя на уме, — засмеялась Дарима. — Ты пошто такой беспокойный?! Наши ребята спокойнее… У тебя, однако, в каждом селе по невесте.
— Льстишь… Да нет, какие там невесты. Успеха не имею у вашей сестры… А вообрази, что мы не в избе, а в юрте, возле горящего очага…
Избенка — со столбом-неудобью посреди, подпирающим матицу, круглую, тонкомерную, с облупленной известкой, из остатней моченьки сдерживающую отлученный, провисший потолок, — избенка эта выпала Елизару на лето от родного дяди, пожилого бобыля, который пустил племяша под ветхую крышу, и, наказав сестре, старой Ефимье, присматривать, укатил к брату в Улан-Удэ. Бобылья избушка до прихода Даримы сроду не ведала путнего убору и прибору и, глядящая сквозь пыль и сажу, походила на укырку — забегаловку, на проходной двор, куда смело подворачивали все, кому не лень, кому негде выпить, потолковать о жизни. Гостили у дяди, гостили у Елизара, а случалось, сморенные вином, и почивали Дамбиха-хулиган и его шалые дружки. На убогую заежку, на приблудище — ворчала старая Ефимья — изба и походила, летом по самую крышу заросшая одичалой лебедой и крапивой, зимой тонущая в снежных суметах; да и внутри камора чудилась нежилой без теплой, домовитой бабьей руки. Елизар харчевался и частенько ночевал у тетки по соседству, у нее же и держал кое-какое шмутье и документы; но в последние дни питухи и лоботрясы отвадились от дома, раза два взашей вытуренные сердитой Даримой, которая…не гляди, что бурятка, что жила на бараньем гурту… выбелила стены, выскребла толстые половицы, промыла окна, занавесив их желтоватыми шторами, — словом, наладила бабий уют, но Елизару померещилось, будто в избенку стал навеиваться бурятский дух. Хотя по-прежнему светились в сыром, тенистом углу иконы Божьей Матери и Николы-угодника, обряженные в медную, с прозеленью, узорчатую ризу, хотя по-старому в тесном закутке желтел и вспыхивал в отсветах печного огня ранешний, с начеканенными царскими медалями, величавый самовар, хотя ничего исконно бурятского в избушку не прикочевало, — ни медных божков-бурханов, пузатеньких, многоруких, многоглазых, ни халатов-дэгэлов, — и все в избенке оставалось как при дяде, тем не менее чуялся Елизару бурятский дух. Не радуясь ему, но и не огорчаясь, он его особо ощущал, когда в избенке домовничала Дарима: резала на столешне домашний сыр (хурууд), перемешивала сухой творог (айрахан) варила суп с бараниной и самодельной лапшой, напаривала зеленый чай, забеленный сливками, перед тем как заваривать, настругав его с большой чайной плиты.
Иссякла и последняя ночь. Ближе к рассвету убаюканная, уласканная Дарима, кажется, забыла про письмо; спала, вольно разметав по белому смуглое тело, видное сквозь призрачно облепившую грудь белую исподницу. До сей поры путем не распознавший первородного греха, порой даже не веривший, что это ему, пеньку корявому, привалила эдакая краса, Елизар гадал, как жить дальше; вставал, пил чай, а под утро, всё на много ладов передумав, решил снять в Иркутске угол, в селе у родителей сыграть свадьбу, позвав и родичей Даримы, и укатить с женушкой в город, чтоб не мозолить глаза деревенской родове. От столь простого решения на душе прояснело, и Елизар, не поджидая утра, тут же разбудил Дариму, сказал ей вырешенное слово, на что она лишь устало улыбнулась и опять смежила млелые глаза.
* * *Денно и нощно строчил ей многостраничные, мелким почерком, тоскующие письма и, надоедая почтовой девушке, выдававшей письма «до востребования», ждал ответа, как соловей лета, но прилетали ответы редко, коротенькие, смутные, благо, хоть с целованьями-обниманьями и ожиданиями; потом Елизар с месяц отвалялся на больничной койке — сломал ногу, и поздней осенью с черной аптечной палочкой явился в село, откуда недели две ни ответа, ни привета, что истомило, изгрызло нетерпеливую душу.
От неведомого предчувствия обойдя свою косенькую избенку, завернул к тетке Ефимье, которая за чаем и поведала, что с полмесяца назад Чечен — клятая в деревенском миру разбойная харя!.. — со своими причиндалами ножом заколол Дамбиху. Варнаков в кутузку, парня хоронили всем селом.
— Царствие ему Небесное — по староумию забыв, что степной парень не верил ни в Бога, ни в лукавого, тетка Ефимья привычно перекрестилась в красный угол, откуда сумеречно посвечивали древлие образа. — Упокой душу раба Божия… Отмучился, бедалажный.
Да, успокоилась хмельная и неприкаянная дамбихина душа, — беспечально вздохнул Елизар, заведомо знавший, что добром парень не кончит: либо пьяный замерзнет, либо в озере утонет, либо сгорит от вина, либо напорется на жиганью финку.
Тут же и забыв дружка из счастливого жаргалантинского детства, побрел в избенку, по самые застрехи укутанную лебедой и крапивой. Долго и недвижно сидел в сырой, разбухшей нежилым, заплесневелым духом, промозглой избушке, тревожно отметив, что в кути и горенке не осталось ничего, напоминающего Дариму, — ни цветастого байкового халата, ни другой одежонки, привычно висевшей возле двери на резных деревянных вешалах; и лишь старая, измаянная кровать, туго затянутая пикейным покрывалом, еще зримо, подогревая озябшую кровь, являла воображению бессонные, яро и беспамятно сгоревшие ночи.
На столешнице, пуще растревожив Елизара, белела пачка писем, сочиненных им за два иркутских месяца, с байкальскими видами и облинявшими, сплющенными цветочками, какие он исподтихаря рвал в Тихвинском сквере и вкладывал в конверты. Пока еще не ведая, куда бежать, стал просматривать влажные, слипшиеся письма, то печальные, тоскующие, то захлебистые, раскаленные страстью; и невольно перечел вписанные в них стихи Намжила Нимбуева, отичи и дедичи которого жили в соседнем айле Усть-Эгите. Стихи, похожие на короткий и счастливый летний сон, так потрясли Елизара…потрясла и ранняя смерть Намжила… так согласно и счастливо легли в Елизарову душу, что порой казалось, будто стихи испелись из его грустного и ликующего духа, вызрев долгими и осветленными иркутскими ночами; и так стихи разбередили тоскующую суть, что Елизар не удержался и переписал их для Даримы.
Будь у меня голос, —
неожиданно вслух прочел первое стихотворение, не глядя на листок, —
Атласный, гортанный,
Словно гарцующая На цыпочках сабля,
Пел бы о бурятках,
Коричневых, как земля,
Об алых саранках,
Сорванных на скаку,
О пылающем солнце,
Запутавшемся в ковылях…
И хотя не солнце алой саранкой расцвело и пылало над Елизаром и Даримой в степной ночи, но бельмастый месяц отчужденно и холодно висел над увалом, с мудрым покоем следя за возлюбленными, летящими на пастушьих конях над сонными травами и, спешившись, припавшими к голубовато-белой степи.
Елизар вырвал из конверта другое письмо и опять прочел шепотом:
Здесь женщины смуглы —
Они в долинах целовались с солнцем.
В них молоко томится,
Мечтая жизнь вскормить.
А брови гнутые над изумленьем глаз —
Как ласточек стремительные крылья…
На испещренных синими чернилами мятых листах стало нарождаться и оживать Даримино лицо, мягко округленное, смуг-лое, с пугающей и манящей тайной в ночных глазах; девушка явственно ожила в сумрачной избушке, когда он читал последнее, сочиненное за неделю до приезда, слезливое письмо и приложенный к нему стих:
Милая,
Спичку зажги
Или пошарь выключатель!
Месяц разлуки с тобой —
Самоизгнание в ад!
Руки ослепли мои.
Тепло твоих рук позабыли.
Глаза позабыли глаза,
Волосы — волосы,
Губы — губы…
Милая, здравствуй!
Сидеть сиднем было уже невмоготу…сиди не сиди, добра не высидишь… и, растревоженный, обиженный на Дариму…не могла уж встретить!.. Елизар, глядя на ночь, тронулся на бараний гурт; суетливо заковылял, подсобляя черным батожком и не слыша, что уже ласково, вслух, шепчет девушке обиды и упреки. Ну да, милые ссорятся — тешатся…