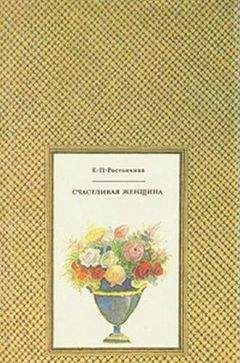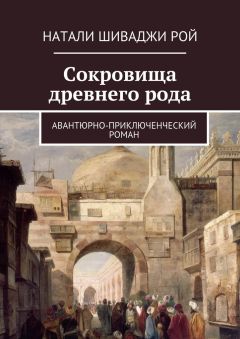Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
— Не так уж много. Наши парни русских девок брали, а ваши редко женились на бурятках. Крещенные, те и вовсе с бурятами не роднились, — мы же иноверцы.
— А западные, усть-ордынские буряты — сплошь крещеные…
— Какие они крещенные?! Одна слава, что крестились. Шаманисты…
— Да, бурятки редко за русских выходили… Но теперь, слава богу, другие времена, теперь всё можно: русский, бурят — хама угэ, лишь бы друг друга любили.
— Может быть… — вздохнула она. — Давай я тебя научу по-бурятски говорить.
— А что, можно. Я уже мало-мало толмачу: би шаамда дуртэ-эб… Переведи.
Дарима засмеялась над его корявым говором.
— Я тебя люблю.
— Или, шы намэ талыштэ. Переводи.
— Ты меня поцелуешь.
— Целуй.
Дарима обняла и звучно поцеловала в щеку.
— Начнем учиться.
— Потом, — Елизар привлек девушку. — Иди ко мне, и ни о чем не думай, не переживай. На всех не угодишь, и на всякий роток не накинешь платок.
Он потянул девушку на всклоченное лежбище, но… как ни умолял, как ни обижался, Дарима собралась и ушла… чтобы явиться на другой вечер, чтобы в глухих и теплых избяных сумерках истаяла в ласках, заспалась томящая тревога.
А уж по деревне азартно, с шумным интересом ползала молва.
* * *Коль молодые не прятались по заугольям и под вечер, случалось, в обнимочку бродили у дремлющего озера либо на лодочке катались… не гребли, а целовались… а потом ходили в кино на вечерний сеанс, вот и заворошилась сплетенная колготня, засудачили кумушки, вечные держатели деревенского лада, перемывая косточки Елизару с Даримой. Дальше больше, и Елизарова родня прочуяла и толковала: мол, Елизар Калашников с ума сдурел, сошелся с Галсанкиной дочкой и собирается жениться, и что нонче деется на белом свете. Живущая в соседней избе тетка Ефимья, старуха сердитая, в древлей вере крепкая, всполошилась, стала выговаривать дикошарому племяшу, когда тот привычно завернул к старухе отобедать. Елизар на каникулах прирабатывал монтером связи.
— Все монтеришь, лазишь по столбам? — повела издалека, налив в миску окуневую уху.
— Знаешь, тетка Ефимья, загадку? — Елизар пребывал в шутейном настроении. — Вот отгадай, что за птица: летит, пищит, когтями машет?
— Отчепись ты от меня, пустобрёх, — досадливо отмахнулась старуха, как от надоедливой мошки.
— Ну кто: летит, пищит, когтями машет? Что за птица?.. Слабо?.. Да монтер же! Монтер со столба упал… — одиноко засмеялся; тётка же смотрела на него, гадая: хворый або дурковатый.
— Запищи-ишь скоро… и крылами замашешь, — осекла его смех тетка Ефимья и сразу же подвернула разговор к болящему. — Худларить[94] ты, гляжу, парень, большой мастак, чо и баить, а ты подумал своей непутной головой, какой грех на душу берешь?
— Ты об чем, тетка Ефимья? — невинно захлопал белесыми, телячьими ресницами, конечно же, смикитив, куда клонится разговор.
— Да все об том, душа твоя фармазонья, что сбеглишь собачью сладил, без венца Божия девку с пути сбил. Ох, накажет тебя Боженька, ох накажет!.. Сбил ее с панталыку, пузо нагуляет, принесет в подоле, Галсанка-то тебя, однако, по головке не погладит. Ты чо же это девку баламутишь?!
— Всё-то вы знаете, — Елизар стал хлебать реже, не подымая глаз от миски, болезненно чуя, как разгорелись уши, и жар хлынул по щекам.
— Дак уж все уши прожужжали. Одне и разговоры теперичи в деревне. Родню-то всю переполошил.
— А им-то какое дело до моего тела, — огрызнулся языкастый племяш. — Что вы все лезете?!
— Уж на что буряты без Христа в голове, и те совесть имеют, и те видят блуд ваш. Срам-то какой, знали бы твои родители.
— Я уже не маленький, молоко обсохло на губах.
— А ты не зубаться с теткой, норки-то не раздувай, — не ис-пужаешь, а лучше послухай, что тебе добры люди говорят, раз толмач угы[95].
— Надоело слушать, сам с усам, своя голова на плечах.
— Во-во, голова-то с овин, да в овине клин. Только тепку и носить да девкам полоротым ум мутить. Больше у тебя ни на чо толку нету.
— Что вы ко мне пристали?! Я, может, жениться хочу.
— Сперва надо было жениться, а потом сходиться. Не мог по-божески…
— Женюсь, не поздно.
— Женись, хоть заженись… Жениться не напасть, да как бы после не пропасть.
— И женюсь, и никого не спрошусь!
— Жени-ись, женись.
— И женюсь, еще навред вам женюсь.
— Навред… Вот заживешь-то, кум королю. Галсанка — баян[96] , денег, как вшей в загашнике, вот и будешь как сало в масле кататься. И невеста с приданым, — сундук коленом подпират. Вот погулям дак погулям.
Елизар, зло прищурившись, терпеливо ждал, когда тетка Ефимья натешится, а потом сухо спросил:
— Все?.. Я пошел, некогда мне с тобой рассусоливать.
— Женить бы тебя не на доброй девице, а на рябиновой вице. Ох, развожжался ты, парень, ох, плачет по тебе бич.
— Вышел из детского возраста.
— Ничо-о, допрежь бы не посмотрели, что эдакий детина, выходили бы вожжами, враз бы шелковой стал.
— Прошли времена…
— То-то оно… Ох, беда-бединушка, извередились, избаловались, хреста на вас нету, прости, Господи, мою душу грешную, — тетка перекрестилась. — Ни стыда, ни совести… Пропадете с такой жизнью… Ты бы, парень, лучше подобру-поздорову отступился, пожалел девку. Тебе же чо, порос[97]у, раз калган[98] не варит, наиграшься да кинешь, а ей-то, бедной, каково будет с такой ославушкой. Ты об этом-то подумал, мякинная твоя башка?! Да уж чо, уж руську-то, хошь никудышку каку, не мог сыскать?
— А мне хамаугэ[99],русская, бурятка! — дурковато выкрикнул Елизар и, кинув ложку об стол, поднялся на ноги.
— А ты не реви, не реви, медмедь, я пока еще, слава богу, не глуха тетеря. Шибко вольные вы ноне, все вам хама угэ, но, однако, наплачетесь, навоетесь от своей воли, кровавыми слезами плакать будете. Своя воля, не Божья воля, — страшнее неволи. Помяни мое слово.
— Да бурятки-то получше наших, понадежнее… — тут он помянул про себя недобрым словом свою прежнюю ухажерку Веру, какая водила его за нос да еще и дразнила: дескать, у меня миленка два, два и полагается… — Русская, бурятка… — лишь бы любовь, а на ваши суды-пересуды наплевать.
— Доплюешься! Любовь… — передразнила тетка Ефимья. — Сполюбил красавицу, на всю округу славится. Любо-овь… Во всяку дырку ее суете, как затычку. Понимали бы каку холеру… Слово-то Божье хошь бы не поганили. Какая любовь без благословенья, без венца…
— А это уж наше дело! — отрезал Елизар. — Нам жить, а не вам. И нечего мне указывать.
— О-ох, дуришь ты, парень, и не лечисся. Обалдень ты, обал-день и есть! Тьфу на тебя! — старуха сплюнула в сердцах, но тут же по древлему семейскому чину, отметнув два корявых, счер-невших перста, трижды перекрестилась на темные иконы, улепившие красный угол, сломила спину в низком поклоне и лишь потом, отдышавшись, прибавила: — С греха с тобой сгоришь. Был бы тут братка, тятька твой, да взял орясину, какой ворота подпирают, да выходил по хребтине, — лишняя дурь-то мигом бы вылетела.
— Не те времена! — опять криком напомнил Елизар старухе.
— Рано ты, парень, за волю взялся. Со-овсем рассупонился. Сам позоришься и девку срамишь…
Она бы еще и не таких попреков наговорила, но Елизар, выведенный из терпения, так саданул дверью, что та чуть с петель не слетела, а в шкафчике под божницей жалобно бренькнула посуда.
После таких попреков Елизар, смалу поперечный… задурил голову «прелесными» книжками, как вырешила тетка Ефимья… а теперь, без отца и матери, еще и ухватившись жадно за волю, зажив своим шалым умом, стал еще нарочно, еще навред старухе и деревенским кумушкам с крапивными языками, средь бела дня расхаживать со своей милой то под ручку, то в обнимочку; и когда они, весело щебеча, выплывали из ограды, старухи на лавочках, да и мужние женки поджимали губы сварливой гузкой, а ребятёшки бежали хвостом и орали оглашенно: «Парочка— баран да ярочка!., парочка — баран да ярочка!..»
* * *Позглазные суды-пересуды строгих кумушек полбеды…не износишь рожу без стыда… обидно было, что и сверстники не шибко жаловали парочку; и если иные молодые буряты с откровенной, лютой неприязнью косились в их сторону, будто жалили своими мрачно зауженными глазами, но помалкивали, то варнаковатые русские парни и в лицо, и позаочь такие шутки отпускали, что даже тертые-битые мужики, хлебнувшие вместе с матюжками фронтовой мурцовки, осуждающе качали головами.
Для храбрости осушив по чарочке крепкого портвейна «три семерки»…они гуляли на пару, топя стыд в вине… раздухарившись, явились в клуб на скачки, — так о ту пору величался стильный танец шейк, сменивший буги-вуги, хали-гали и твист. Елизар издали приметил парней, торчащих возле клуба, откуда уже рвалась на волю ревучая музыка. Подойдя ближе, решил было пустить Дариму вперед, чтобы войти в клуб, вроде, каждый сам по себе, но сообразил, что обидит девушку, что таить им нечего… разнесли сороки на хвостах по заугольям и подворьям… а смекнув, что терять им нечего, еще крепче обнял Дариму и бодро подмигнул ей. Но многоверстным и надсадным почудился парню, а и деве тоже, короткий путь от калитки до клубного крыльца, ибо шли возлюбленные встречь напористым, усмешливым взглядам, оголившим, исшарившим их вдоль и поперек, словно брели из последней моченьки против колючей, жалящей щеки снежной пурги. По окаменелому лицу девушки видно было, как она, бедная, страдала.