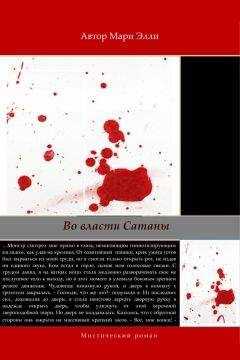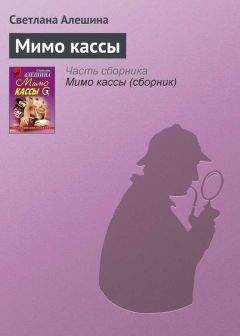Федор Кнорре - Без игры
— Да уж он станцует... знаешь, как только я решу идти с ним гулять на улицу, он угадывает это безошибочно — сам нырнет головой в поводок, замрет и не шелохнется все время, пока я его застегиваю, а потом уж мы как вырвемся с веселым скандалом во двор, распугаем всех кошек, ворон и больших собак. Он ведь очень мужественный, верно?
Одобрительно прислушиваясь к ее голосу, а вероятно, и к знакомым словам, пес подошел к Юлии, ткнулся носом ей в ступню и с размаху грохнулся, перевернувшись на спину.
— Нельзя его так расхваливать в глаза, он зазнается, — сказал Владимир Семенович.
— Мама каждый раз требует полного отчета, что он делал, как себя чувствует... Она мне раз сказала: вот если бы он, тепленький, мог спать, свернувшись, у нее в ногах на постели и посапывать во сне. Ей было бы в клинике уютно, как дома... Она его вспоминает и говорит, что ей иногда вдруг кажется, что он большой такой, крупный пес, а то кажется, что он совсем маленький...
— Да, правда, про него никак и не скажешь: маленькая собачка, а ведь в сущности он очень небольшой.
— Он настоящий серьезный большой пес, только небольшого роста.
— Да, что-то в этом роде... Мне мама тоже говорила, что мечтает его погладить, поерошить... Все время мечтает о доме... как вернется... На две-три недели они ей теперь обещали.
Он поставил допитую чашку на блюдце и, осторожно нажимая одним пальцем на ручку, сосредоточенно стал поворачивать чашку, точно переводя стрелку часов.
— Давно когда-то она тоже мечтала: одну неделю... Да, да... после войны. Комнатка у нас, по правде говоря, была плохонькая. Окна чуть выше тротуара. Темновато, сыро, и все такое. Ну, как у всех после войны. Она еще в цеху работала. Там ее толкнуло, и она упала на чугунную плитку, ушибла плечо и колено, и пришлось ей безвыходно... все в этой комнатке, все одной... вот она лежала и мечтала.
— А где я в это время была?
— Трудно сказать. Мы тебя ждали, так мечтали о тебе. А ты где-то задерживалась. Почти десять лет тебя ждали. Волокита какая-то, там тоже бюрократизм, наверное. Тогда мы даже не знали, как тебя назовем — Юлька или Юрка.
— Ах, так я, может, не к месту получилась? Кого вам лучше?
— Юлю, Юлю!.. И она еще мечтала, чтоб у нас было светлое окошко. Распахнуто настежь, ветерок шевелит легкую занавеску, а на столе, на белой скатерти, — баночка айвового варенья просвечивает на солнце. И кругом тишина и покой. Муха жужжит, и больше ничего не слышно... да, и белый хлеб свежий, толстыми ломтями нарезан, лежит на столе, и никто нам не завидует, у всех людей вокруг — тоже белый хлеб и варенье. Сколько хочешь... И мы сидим друг против друга и знаем, что и завтра так сможем сидеть, и так целую еще неделю... «Целая неделя, — говорила она, — ведь это целая жизнь! Только бы дожить до этого!..»
Отрывистый, не злой, но как бы серьезно предупреждающий лай донесся из прихожей, куда стремительно умчался, точно подброшенный пружиной с пола, Прыжок.
— Я еще руку до звонка не дотянул, а он уже слышит, чертенок! — одобрительно приговаривал Лезвин, входя.
Песик обнюхал его очень внимательно, не из недоверия: Лезвин был старый знакомый, — а просто чтоб разузнать, где тот был и с кем встречался.
— Вот альбомчик принес, не знаю, интересный ли. Не испанский. Какого-то старого немца. Рисунков много.
Нагнувшись над столом, они развернули и бегло перелистали альбом.
— Хороший. Спасибо. Ей, наверное, понравится.
— Вы думаете, сгодится? Испанцев мне все равно достать обещали.
— Нет, нет, и этот хорош. Нам же не обязательно великие мастера. Нам нужны лучше всего такие картинки, где много чего нарисовано, чтоб ей подольше разглядывать хватало.
Юлия улыбнулась, и Лезвин отметил, что улыбка у нее удивительная: шутливо извиняющаяся и нежная, когда она произносила это «нам». Точно не о матери говорила, а мать о своем маленьком: «нам нужно потеплее одеться».
— Ведь понимаете как? Пускай там на переднем плане какой-нибудь дворец, и войско марширует по площади, и какой-нибудь, хоть Наполеон, на коне, и если долго внимательно разглядывать, вдруг замечаешь, что далеко от дворца под деревом привязан ослик. Или еле видный человечек, крошечный, как козявка, тащит, согнувшись, тачку с мешком, или другой на лодке гребет через реку... ну, всякое, и она размышляет, а куда это он гребет? Что он за человек?.. Мало ли до чего додумается человек, когда у него слишком много времени лежать и думать... Я пойду вам кофе приготовлю, посидите.
— Не стоит, ведь я на минутку! — неуверенно согласился Лезвин и неодобрительно чмокнул языком, когда Юлия выходила на кухню. — Я, знаешь, на похоронах был, — сказал он тихо, когда дверь за ней затворилась.
— A-а... Этого? Иванова?
— Ну да. Машин двести такси съехалось. И когда музыка кончила играть — все включили звуковые сигналы. Секунд пятнадцать стоял рев. Прямо рядом со мной один нажал кнопку и держит. Нарушает правила. И смотрит на меня. А я — на него и, как глухой, ничего не слышу. Никто не слышал, ни один милиционер.
Ведь это как прощальный салют. И всем им опять выезжать на линию. Как им запретишь... «Моя милиция меня бережет», — сказал один таксист, когда все кончилось. Я тоже этого не слыхал. Что ему ответить? Правда. На нас лежит эта тяжесть.
— Лежит. Ох как лежит. Тут хуже всего эта бессмысленность, изуверская жестокость, а расчет на копейки. Ну да ладно.
— Ты оружие с собой берешь?
— Нет, не решаюсь. Что ты! Сам подумай — риск. Сумеет сзади тебя по голове... какой-нибудь болванкой. И готово — у них в руках пистолет. А с пистолетом они в десять раз опасней. Нет, нельзя с оружием. Надо так управляться, а вот и кофе едет, я с тобой, пожалуй, еще выпью, а потом вместе и выйдем. Спасибо за картинки, по-моему, ей понравятся. Я скажу ей, что это ты принес.
— Тебя к телефону! — умирающим от скуки голосом простонала Зина и, когда Андрей живо соскочил с дивана, снисходительно добавила: — Не она! Не она!
— Ну и не звала бы, — он приглушил проигрыватель, лениво волоча ноги, поплелся в другой конец зимней террасы и взял трубку. — Да! — сказал он зло.
— Это я, Элла, — нервно запинаясь, проговорил слабый голос. — Прости, пожалуйста... Простите, мне не следует звонить?
— Есть какое-нибудь дело?
— Нет, никакого дела нет.
— Тогда мне сейчас некогда.
— Ну и отлично! — Это она выговорила вдруг без прежней робости, бодро, точно головой встряхнула. Наверное, успела улыбнуться, прежде чем положить трубку и зареветь.
Андрей это почувствовал и поморщился от досады. Опять повалился на диван и поддал громкости проигрывателю.
— Это что, Муська?.. Нет, Муська — та нахальнее. А это кто был-то?
— Не зови ты меня, когда они звонят.
— Ты бы их перенумеровал: «Звонит номер седьмой!» — «Нет его дома!» — «Номер одиннадцатый!» — «Он неожиданно и навсегда покинул этот город!»
— Столько не наберется: одиннадцать.
— «Говорит номер икс!» — «Не кладите трубку! Он тут, ждет вашего звонка!..» Чего ты сам ей не позвонишь?
— Неужели не догадалась?
— Что она тебе отвечает?
— Нам нет надобности встречаться.
— И все?
— Мама больна.
— Ну уж отговорочка!.. У всех мамы, и у кого они здоровы!.. Ну, хочешь, я ей позвоню?.. Хочешь, я к ней поеду? Ну хоть встретитесь, поговорите, как люди.
— Не станет она с тобой разговаривать.
— Ну так ты совсем дурак. Как это не станет? Со мной она не расходилась. Я не знаю и знать не хочу... во всяком случае могу не знать, чего у вас там произошло, но нетрудно догадаться, что ты что-нибудь нахамил или насвинячил, а с ней этого нельзя, — она вдруг сделала круглые глаза, высоко вздернув брови: — Уу-у?.. Прямо-таки вот до чего?
Андрей с каменным лицом встал и вышел из комнаты, даже не выключив музыку.
У себя в комнате он повалился на диван и предался совершенно непривычному занятию: стал размышлять, думать.
Произошло с ним вот что: накануне вечером он в первый раз в жизни лег спать и не заснул. Он и представить себе не мог, как это с людьми бывает, что они закроют глаза, полежат-полежат и вдруг обнаружат, что им не засыпается. Мысли сами собой потекли по автотрассе Москва — Симферополь, смутно замелькали смазанные на ходу, неясные очертания березовых перелесков, еловых пригорков, долгие ряды придорожных тополей, потом крутые горные повороты, окаймленные темными кипарисами, все это проскользнуло, тотчас сменившись какими-то картинками, ярко освещенными солнцем, но почему-то оставшимися в памяти, беззвучными, как цветное кино с выключенным звуком... Да, были остановки, короткие и долгие, пока они добирались до моря. С ними вместе увязалась на двух машинах компания его старых знакомых, тоже завзятых автомобилистов. Было суматошно и как будто весело, как бывает, когда люди твердо решили веселиться и специально с этой целью проехали тысячу километров. По пути прихватывали и подвозили чьих-то знакомых, пересаживались из машины в машину, но теперь, когда он все это бегло вспоминал, оказывалось, что вспоминать почти нечего, все выдохлось, как вино в давно раскупоренной бутылке. Кажется, ничего решительно не происходило, машина бежала по скучной степи, однообразно гудела, горячо нагретый воздух ровной струей вдувался через приоткрытое переднее стекло и шевелил кончики темных волос на голове у Юли, перевязанной в дороге тряпочкой легкого шарфика. Она сидела, откинувшись в уголок переднего сиденья, и по ее лицу было видно, что ей хорошо, она наслаждается быстрым и долгим ходом бегущей машины, горячим блеском солнца на капоте, предчувствием появления где-то на горизонте громадного теплого моря. Совсем убаюканная своей безграничной, даже чуточку самодовольной уверенностью в нем, в их неразрывной близости, она полна беззащитной доверчивостью, которая видна даже в том, как, ласково расслабившись, улеглась ее рука, откинутая на спинку сиденья, как беззаботно далеко открылись ее загорелые голые коленки из-под помятого края полотняного платья.