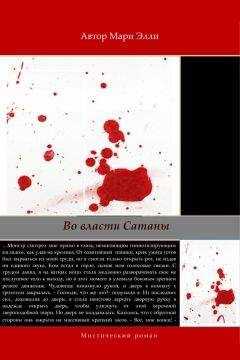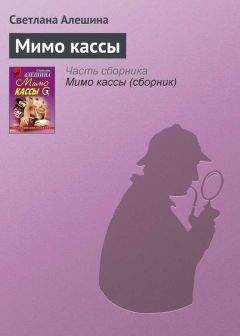Федор Кнорре - Без игры
Поезд уже подошел и медленно полз вдоль перрона, мимо встречающих, которые беспокойно заглядывали в окна вагонов.
Он неторопливо надел пальто с золотым галуном на рукавах, тщательно расправил белое кашне и поправил перед зеркалом форменную фуражку. Следом за носильщиком, снявшим с полки его большой заграничный чемодан, одним из последних спустился из вагона на платформу.
Мельком равнодушно подумал, что если бы Наташа осталась в вагоне, сейчас бы получилось минутное неудобство: кому сойти раньше — ему или ей, чтоб вдруг не оказаться прежде времени вместе. И хотя он ничего не боялся и не собирался скрывать, и к тому же никто в глаза Наташу не видел — ни жена, ни дочери, — все равно лучше, что никакой неловкости и фальши не получилось.
Жена встречала, но сразу не заметила его и бестолково, растерянно смотрела в другую сторону, читая номера вагонов.
Хоть была бы она жадной стервой, как у бедного капитана Клычкова. Та-то уж не прозевала бы момента, когда чемодан выносят из вагона.
Наконец жена его увидела, подбежала, слабо уцепилась ему за руку, робко, придерживая одними пальцами, и они пошли рядом, следом за чемоданом, ехавшим среди других вещей на железной тележке.
Он искоса поглядел и поразился: бедная, да ведь она постарела. Она была такая же худенькая и маленькая, как прежде, только лицо вот заметно постарело, и она, как будто зная это, улыбалась виновато и робко, радовалась, что все-таки идет с ним рядом.
Вероятно, надо было бы улыбнуться в ответ, но он заметил, что, оказывается, давно совсем отучился улыбаться у себя дома, в семье, и только кивнул снисходительно тому, что сбивчиво рассказывала ему жена: кто звонил по телефону, от кого были письма, как он загорел за время плавания и как беспокоит ее младшая девочка. Как ни странно, он почти не слушал, что она говорила, но ему казалось, что все это очень славно и хорошо. Даже хмурый будничный вокзал с подземными переходами выглядел празднично, освещенный тихим светом и наполненный счастливой толпой людей, спешащих куда-то, где их ждет еще большая радость.
Они вышли на площадь, полную такого прекрасного шума жизни, что ему стоило усилия сдержаться и не дать ей заметить всей силы радости, которая пела у него глубоко в груди, тихого ликования заключенной в нем тайны ожидания. Он знал, что теперь, всякий раз, как только никто не будет ему мешать, уже никогда не останется он один на один со своей старой тоской одиночества, даже в такие, прежде ужасные, пустые часы бессонницы! Теперь достаточно будет ему дать себе полную волю — и его снова и снова охватит давно забытое, потерянное и возвращенное ощущение великой благодарности и полноты жизни.
Ему стало стыдно за свое богатство, когда он подумал о жене. У него есть Наташа, и это уж навсегда останется при нем, в Австралии, в Карибском море и в соседнем районе Москвы, все равно. А у нее? У нее не останется даже меня, этого истукана в хорошо пригнанной форме, замкнутого на все замки... Даже меня.
Он помнил свое твердое решение начать разговор, но оно как будто осталось за порогом, через который он уже перешагнул. Сказать? Объяснить? Это все равно как если бы он сейчас размахнулся и со всего маху двинул локтем в это робко-радостное, усталое и такое немолодое лицо. Да нет, куда уж там!.. Ах, как она права, Наташа... Сердце глупое творенье, но и с сердцем можно жить...
Он увидел тревожные глаза жены.
— Что-нибудь произошло? — голос ее звучал пугливо, даже как будто виновато... — Плохое?..
Да, безумное волненье тоже... можно... укротить... Права... права Наташа, — и вслух выговорил:
— Ты спрашивала что-то?.. Что — плохое?
— Нет, нет, извини, пожалуйста... Мне просто показалось. А все хорошо, да?
Не оборачиваясь, он нашел ее маленькую руку у себя на сгибе локтя. Точно ручонку обиженной сестренки, тихонько сжал ее пальцами сквозь толстую кожаную перчатку.
В ту же минуту она быстро обернулась, робко заглянув ему в глаза. И тут он наконец улыбнулся ей, с пронзительной жалостью увидев, до чего благодарно просияло и ожило ему в ответ ее лицо.