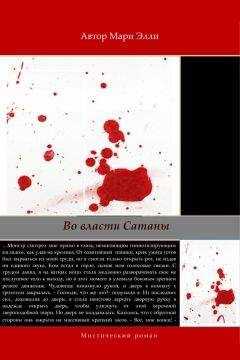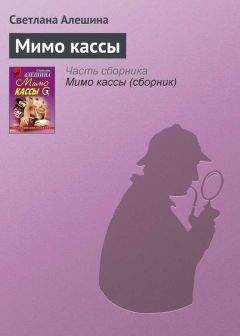Федор Кнорре - Без игры
Вот она лежит тут рядом в постели, наверное, в том же своем платьице-рубашонке, а он через пелену злого отвращения к самому себе подумать даже не может, чтоб протянуть руку и коснуться ее. То, что было так просто с обыкновенными женщинами, которых он часто знал совсем мало, и даже, чем меньше знал, тем проще, — все это не могло иметь никакого отношения к ней. Он стискивал зубы, отворачивался, но все-таки вспоминал отвратительные обрывки своей жизни и понимал, что нет у него никакого права, никакой надежды хотя бы остаться тут на месте, поблизости, и скоро надо будет уходить, уходить...
Закоченев в полном отчаянии и самоотвращении, считал, как уходят минуты, пока еще можно лежать так и слушать дождь с закрытыми глазами в ожидании утра, когда надо будет уходить.
Конечно, невозможно было веками закрытых глаз почувствовать отдаленное, как бы покачивающееся тепло над его лицом, но он его чувствовал, даже стал различать, как она, эта тень тепла, струится откуда-то слева, и, не открывая глаз, вслепую приподнял и повел руку в пустоту, влево от своей головы; тепло стало явственнее, и через секунду кончики пальцев его, именно там, где он и предчувствовал напряжением всего существа, наткнулись на ее горячую, чутко вздрогнувшую руку. С ясным ощущением совершающегося, начавшегося и продолжающегося чуда он робко коснулся ее запястья. Его пальцы, медленно и слабо скользя, мягким браслетом дошли до нежной впадинки на сгибе обратной стороны ее локтя, где под кожей билась торопливо и беззащитно синяя, он знал, что она синяя, тонкая жилка. Может быть, прошел час, но скорее — несколько долгих секунд, и ее рука начала потихоньку выскальзывать обратно. Он и не удерживал. Она ведь не бросала его, не уходила, она сказала все, что было нужно, и медленно возвращалась, ничего не отнимая, ни от чего не отказываясь...
Как многое, бесконечно многое покрылось пылью равнодушия и рыжей ржавчиной времени, как многое безвозвратно выцвело, охладело, обезразличело ему за эти двадцать лет жизни. Но только не эта рука в темноте, не этот нежный сгиб локтя с отчаянно бьющейся жилкой. Это-то осталось и останется при нем, наверно, навсегда.
...Поезд мчался, своим гулом совсем стирая грань между вчера — сегодня — завтра. Все сильнее становилось это ощущение оторванности от места и времени, невесомости чувств. Синий фонарь нереальным светом высвечивает поскрипывающую стенку несущегося над землей маленького купе, с двумя покачивающимися пальто: длинным, тяжелым и легким коротеньким, прошнурованную кожаную ручку и блестящие два замка большого чемодана.
— Я думаю, если б человек мог бы вдруг разом, совсем вспомнить... все-все, совсем!.. Во всю силу, всю свою жизнь... Наверное, сердце не выдержало бы, лопнуло!..
Она отозвалась мгновенно, нервно, не дав договорить:
— Да!.. Это правда... — И безлично, осторожно: — А неужели... у тебя тоже?.. так?
— О-о, еще как... Лучше замнем... А вот что: ты не рассердишься? Нам бы поздороваться. А? Руку только протянуть бы сверху, просто: „Здравствуй“. Можно? А то ведь мы точно в жмурки играем в темноте.
— Да ведь оно так и есть. Нам только кажется: мы рядом, а между нами течет такая широкая река.
— Нет такой реки, чтоб переправиться нельзя.
— Есть одна: широкая и темная — Время. Разве через него переправишься? Переплывем — и не найдем, и не узнаем друг друга.
— Руку! Руку-то протянуть мы друг другу можем?
— Что ж руку? Коснешься и знаешь, что снова придется отпустить... И вот, глупо волнуешься почему-то...
Она помолчала и два раза коротко, с силой вздохнула, ей не хватало воздуха, и с трудом выговорила небрежно:
— Конечно, отчего же, в конце концов? — как бы уговаривая себя, вслух повторила. — Отчего же?..
Он напряженно смотрел вверх и ждал. Кончики пальцев свесились, выглянув из-за края верхней полки, проползли по простыне и стали спускаться вниз, в пустоту, показалась вся кисть, тонкое запястье, наконец вся рука выше локтя, в сбившемся чуть бледно-голубом узеньком рукаве пижамки. Он приподнялся, потянулся, осторожно сжал сухие пальцы маленькой, как будто мальчишеской руки, с каким-то неожиданным замиранием дурноты прополз своими крупными, шершавыми пальцами по ладони до запястья и выше к локтю, чувствуя тепло и как будто чрезмерно нежную мягкость ее кожи.
— Это ты? — позвал из темноты ее голос. — Неужели это ты?
— Вот я трезво, спокойно все помню. Все годы жизни. Старый, загрубелый человек. Все помню: ничего у меня за душой... кроме этой вот руки, в жизни не было.
— И у меня, милый... И у меня.
— Вот я опять твою руку держал в своей. И все не верю, не верю.
— Да, как будто не мы встретились. Но хоть они... На минутку, на ощупь друг друга нашли... Такая нежданная, вторая их встреча, — Она попробовала усмехнуться. — А расстались тогда мы, кажется, совсем молча?
— Ну, наверное, я говорил, что поеду устраиваться на работу, что вернусь за тобой... Не помню.
— Правда? Я тоже ничего не помню, что ты говорил. Я не понимала ничего, кроме того, что ты уезжаешь и это мне смерть. Ты уходил утром по скользкой дорожке между мокрых кустов. Как сыро было, ветрено, холодно после дождя. Я глядела тебе вслед и изо всех сил повторяла про себя: господи, только бы он не уходил, хоть бы остановился, хотя бы обернулся...
— Да я ведь оборачивался и останавливался, а ты мне сейчас же кричала: „Иди, иди, уходи скорей!“ Честное слово, кричала!
— Правда? Этого я тоже не помню... „Иди, иди“? Что ж, может быть. Мало ли чего человек с отчаяния не крикнет.
— Неужели ты думала, что я могу уйти и не вернуться?
— Я совсем ничего не думала, просто видела, что ты вот-вот уйдешь, калитка стукнет — и не знаю... день погаснет... или жизни конец? Не знаю.
— А когда я потом за тобой вернулся, ты, кажется нисколько и не удивилась?
— Да, ты сказал мне: „Поедем!“ Я, кажется, даже не спросила куда?
— Не спросила. И мы поехали, и, кажется, почти всю дорогу молчали, да?
— Нет, ты мне что-то рассказывал, только мне-то все было неважно. Мы же ехали куда-то вместе, вдвоем! Что ж мне еще?.. Нет, слова я помню: это называется „восстановительный ремонт“. Какой-то пароходик. Не могла же я тогда знать, что это окажется наш единственный, волшебный „Муравей“.
— „Муравей“!.. „Муравей“... — мечтательно посмеиваясь, подхватил он. — Я ведь выпросил себе эту неправдоподобную, невпроворотную работу. Просто спасения ради схватился... Весь он был обгорелый, простреленный под Сталинградом, без руля, с мертвым двигателем. Пока мы с Афоней в него живую душу вложили, сами-то еле живы остались.
— Вот я поразилась: вдруг нас Афоня встречает на берегу. Это тоже радость: точно у нас товарищество какое-то образовалось.
— Да так оно и было. Только со стороны казалось, никто этого не замечал... Все думали, наверное: вот пыхтит себе такой потрепанный буксир, тянет баржи, а мы-то шли как в кругосветку, мимо всех островов и заливов мира! Да нет, это даже и сравнить нельзя! Из кругосветки вернешься — и что? — какой отчалил, такой и причалил. А после Волги? Нет, никогда я уже тем человеком не стал, каким был до этого плавания... Это я трезво говорю. Ведь и Афоня все-таки другим человеком осенью на берег сошел.
— Все правда, было одно это наше жаркое, единственное лето, и даже сейчас невозможно сказать, долго это было или коротко. Было... Было... Помнишь? — в голосе ее была улыбка. — До чего бедный Афоня у нас сперва бунтовался! Съезжал на берег, буйно запивал, грозился совсем нас бросить, все подозревал, что его по убогости пожалели.
— Трудно ему было: уж больно он здоровенный мужик, и жену-то он любил снисходительно, принимал ее любовь и баловал, как свою девчонку, и вдруг у нее на руках сам оказался, беспомощный, как ребенок. Вся ее забота, и слезы, и жалость приводили его в ярость. Трудно человеку, когда он привык сверху вниз на всех снисходительно поглядывать, да вдруг самому-то и оказаться... где-то внизу...
— Уже и в плавании, на корабле, он все метался, то уверует, что он воистину подлинный наш благодетель: за тебя все ночные вахты бессмысленно выстаивает... То во всем разуверится и опять сорвется. Только одно его убедило и переломило мало-помалу: взаправду себе он ничего не брал, все только нам отдавал, работал за нас, не спал ночи. Одно это как-то утихомиривало его кипящую душу. И то ведь понемногу, не сразу.
— Еще бы, сразу!.. Помнишь, как он с получки вернулся совсем трезвый! А сам потихоньку приволок две бутылки водки в карманах и вдруг сразу нырнул в каюту. Чтоб втихую напиться, а я пошла, ему пучок луку принесла, поставила перед ним стакан и сама села против него: „Пей, Афоня, неужто ты не заслужил? Мы кругом перед тобой в долгу — столько времени нас все выручаешь! Понятно, тебя на волю тянет, осточертеет за других ночные вахты стоять!..“ Не помню, что я еще там говорила, взялась сама ему бутылку открывать, а он у меня вдруг ее вырывает из рук и с грохотом мчится на своей тележке обратно на берег! У ларька и разгорается скандал. Он в крик требует, чтоб у него бутылки обратно приняли, деньги отдали, ларечница отказывается брать, народ собирается на крик, Афоня из себя выходит, на эту ларечную будку своей тележкой налетает как танк, бодает ее, как бык, посуда на полках дребезжит, баба орет, какие-то мужики за Афоню вступаются, дубасят в стену кулаками, одну бутылку тут же вдребезги кокнули, другую мужики в складчину у него взяли, деньги отдали и его же угостить обязательно хотели, шли за ним, уговаривали. Никак!