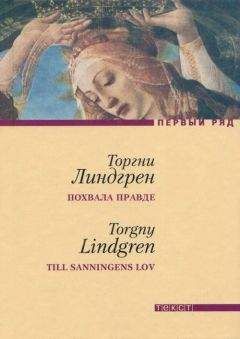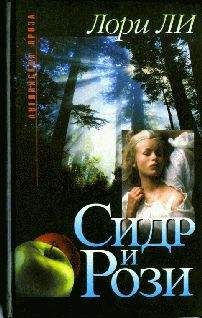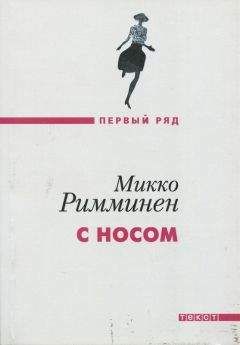Торгни Линдгрен - Вирсавия
Ехал он в одиночестве, селений и городов сторонился, меч положил впереди, поперек седла, короткое копье и щит подвесил за спиной, на ременных петлях. Он и ел, не слезая с коня, нехотя, опасливо и как бы с трудом, припасы висели в кожаной сумке на луке седла — вяленое мясо и виноградные лепешки.
Он не знал, зачем царь призывает его. Среди храбрых царя Давида он не из заметных, большим начальником ему не бывать, может статься, будет он поставлен над стражей в царском доме или над тюремщиками в Сионе, может статься, получит награду за какое-нибудь великое и благое деяние, которое, сам того не ведая, совершил, а может статься, будет наказан за какое-нибудь зло или предательство, которое свершил, опять же сам того не ведая.
Он следовал за царем Давидом с того дня, как воцарился Давид в Хевроне, все те семь лет, а потом и все эти не исчисленные еще годы в Иерусалиме, участвовал в сражении трехсот шестидесяти у Гаваона, воевал на стороне царя против иевусеев, первым ворвался в покоренный Сион, был вместе с царем в долине Рефаим и слышал шум шагов Господних по вершинам тутовых дерев, да, они вправду сидели в жаркой тьме и слышали, как Господь идет пред ними на битву, в тот раз Он без сомнения по праву заслуживал имени Всевышний, они слышали, как Он шагает в вышине по густым, могучим деревам, и если бы не темнота, то, наверное, увидели бы Его подошвы. Был Урия подле Давида и тогда, когда Давид и Иоав победили филистимлян в Ваал-Перациме. Он пособил царю и Иоаву, когда разбитые моавитяне были схвачены и истреблены у Кир-Моава, ведь он лучше всякого другого в войске знал тайны чисел, он был надежнее всех, когда требовалось разделить чет и нечет: побежденных смерили веревкою, по велению царя положивши их на землю, и отмерили две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых.
Царь Давид.
Урия думал о нем со страхом и преданностью. С годами царь делался все более странным, все более чужим. Сам уже не воевал, посылал войско и храбрых своих против городов и народов, а сам оставался в Иерусалиме, войны как будто более не радовали его, были просто необходимостью. Он слагал псалмы, плодил детей и имел общение с Господом Богом. В народе говорили, будто он филистимского племени, будто в жилах его течет вражья кровь, не то откуда бы взяться белокурым волосам и светлой коже? Он всегда колебался меж кротостью и жестокостью, меж ненавистью и любовью, меж звоном струн и шумом сражения. Порою милость его не знала границ, порою не утолить было его кровожадности. Может статься, корень его двоедушия был в темном происхождении: внутри он носил собственного врага. Иные числа бывают чрезмерно злосчастны. Отсюда, наверное, шла и его неутолимая жажда правды: ведал он всю двойственность бытия, знал, что нераздельны добро и зло, но различать их все же необходимо, что истина и ложь всегда сплетены меж собою, как нити утка и основы, но их надобно разрезать ради божественного порядка, что любовь к правде, та любовь, которую Господь вложил в грудь человека, отчасти была жаждой божественности, а отчасти жаждой зла, но всегда лишь одним, а не тем и другим сразу; что любовь к правде изначально была пренебрежением и отвращением к неразличимости и сплетению.
Оттого-то Урия был убежден: что бы ни приуготовил ему царь Давид, решено это по правде.
Иногда в войске, особенно среди воинов иудейских, да и среди храбрых Давидовых, роптали, что суд правды должно бы свершить и над царем, ведь это он повелел предать смерти убийц Иевосфея, и отрубить им руки и ноги, и повесить их над прудом в Хевроне, а Иевосфей был как-никак наследником царя Саула, и те люди, которые убрали его с дороги, думали, будто сослужили царю Давиду добрую службу; и это он взял к себе хромого и колченогого сына Ионафанова, Мемфивосфея; и это он приказал побросать в огонь всех добрых и полезных филистимских богов; это он, победивши царя Адраазара, велел подрезать жилы полутора тысячам коней, а ведь кони-то, верно, святыня! Однако ж никто и никогда даже не пытался свершить этот поистине немыслимый суд правды — чтобы прикоснуться к помазаннику Господню, требовалось мужество и безумство, коего ни один из храбрых покуда в себе воздвигнуть не умел, а все эти отдельные правды сплелись воедино и стали неразличимы, сплавились во всеобъемлющую и неоспоримую, если не сказать божественную правду.
И все же в усталых, медлительных мыслях Урии брезжило порою, что, может статься, заботой его будет — поразить царя мечом правды, даже и такое вовсе не казалось немыслимым. Что бы ни поручили ему, он все исполнит, жить — значит исполнять свой долг; долг Урии всегда заключался в том, чтобы сражаться, и грабить, и завоевывать, а потом отказываться от завоеванного, отдавать кому-нибудь другому, дарить нищим, бросать в реку, а потом идти дальше, равнодушно и беспощадно. Он никогда не отвергнет ту участь, что выпала ему.
И о Вирсавии он тоже думал, плоть его думала о ней, если царь позволит, он ляжет спать с Вирсавией.
Среди всех священных чисел «два» — самое священное, ибо это число любви, и созидания, и женских грудей, и ляжек.
Поднявшись на вершину первого кряжа, он поднял глаза свои и увидел мир: солнечный свет дождем струился на сквозистые деревья, в оливковой роще перед ним ходили женщины в багряных одеждах, горы соединялись с небом в мерцающую дымку, которая напомнила ему о море: однажды с вершины холма неподалеку от Яфы он видел море. Дивная, непостижимая красота бытия наполнила его.
Даже число тридцать семь было дивно и прекрасно. Трижды тридцать семь дает сто одиннадцать. Двенадцать раз тридцать семь дает четыреста сорок четыре. Двадцать семь раз тридцать семь дает девятьсот девяносто девять.
Господи, Господи наш, сколь величественно имя Твое!
Урия выпрямился, передвинул немного повыше тяжелый меч, солнце жгло его покрытое рубцами, опаленное огнем ржаво-красное лицо, взор его устремлен был к Иерусалиму, городу Давида. Он не ждал для себя ничего в особенности, конь поник головой, и она моталась из стороны в сторону, Урия чувствовал беспокойство и трепет, он был преисполнен ожидания.
_
Женщинам нужен колодезь, чтобы собираться подле него.
Поэтому царь велел выкопать и обложить камнем колодезь перед своим домом, на склоне, ведущем к скинии Господней. Колодезь этот был безводный, мнимый, подлинная вода текла подземным каналом от Гионского ручья к Сиону, к царскому дому гионскую воду возили в кадках, занимались этим рабы и слуги. Воду женщин, мнимую воду из пустого колодезя, носили в легких глиняных кувшинах с ременными петлями; это была вода, которой не существовало.
У Давидова колодезя женщины собирались, когда наступала вечерняя прохлада. И всегда, вечно должно быть так.
Подъехав к колодцу, Урия остановил коня. Всем странникам, прибывшим издалека, должно так делать — ненадолго, как бы в ожидании, что предложат им чашу свежей воды, останавливаться возле сбившихся в кучку, шушукающихся женщин, и порою им вправду подносили чашу мнимой воды, чтобы мнимо напиться.
Но когда Урия подъехал, женщины умолкли и отвернулись от него, наклонились к колодезю, никак они не хотели ни смотреть на него, ни иметь с ним общение, он увидел, что Вирсавии нет здесь; хотя женщин было больше сотни, он сразу увидел, что ее нет здесь, и понял, что они знают о Вирсавии что-то такое, чего он не знает, все женщины, кроме тех, у коих были дни очищения, собрались здесь, у колодезя.
Во дни очищения женщинам запрещено было пить воду из колодезя Давидова.
Хелефеи, стоявшие в дозоре на кровле, заметили его, и один из привратников, из тех, что без оружия, подбежал, и взял коня под уздцы, и повел к лестнице царского дома. Грузно и неуклюже Урия спешился, чтобы не упасть, поневоле схватился за ременную подпругу, пошатнулся, будто от головокружения, ноги у него онемели от долгого бездействия, и несколько времени он топал тяжелыми ступнями по земле, чтобы разогнать кровь или удостовериться, что он еще способен стоять на ногах, как мужчина. Потом он прошел наверх, к царю.
В покое пред горницей царя Давида встретился ему Мемфивосфей, внук царя Саула, колченогий калека царского рода, тот, что всегда ел за царским столом.
Каков он нынче? — шепотом спросил Урия.
Бодр и весел, тоже шепотом ответил Мемфивосфей. Поел бараньего сердца и выпил чашу вина, потом говорил со своим писцом, а сейчас сидит у окна, ждет тебя.
И Урия вошел к царю, и пал пред ним на колени, и прижался шершавым своим челом к гладким кедровым половицам, он был наполнен смятением, испытывая в этот миг и вполне понятную гордость воина, и глупое презрение подданного к себе самому.
Встань, сказал царь. Незачем тебе ползать на полу, будто младенцу.
Голосом он дал понять, что, даже пресмыкаясь во прахе, не избежишь участи, уготованной тебе Господом.
Я хотел только приветствовать тебя, как должно приветствовать царя, сказал Урия и с усилием поднялся.