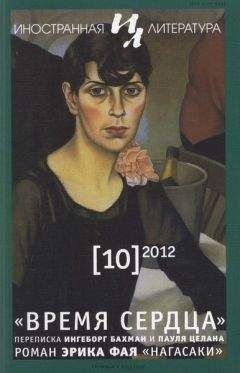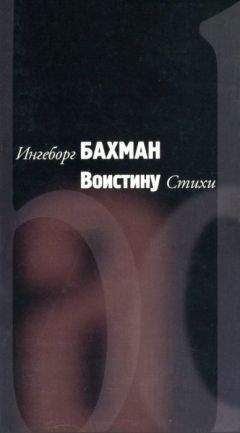Джордж Элиот - Мидлмарч: Картины провинциальной жизни
– Вы так добры! Теперь я счастлив! – воскликнул Науман, повернулся к Уиллу и продолжал по-немецки, указывая на этюд, словно что-то требовало обсуждения. Затем отложил его и рассеянно поглядел по сторонам, как будто раздумывая, чем занять своих посетителей. И наконец сказал, обращаясь к мистеру Кейсобону:
– Может быть, прекрасная новобрачная, милостивая госпожа, не откажет мне в разрешении сделать с нее набросок, чтобы как-то заполнить эти полчаса. Не для картины, разумеется, а так просто.
Мистер Кейсобон с поклоном выразил уверенность, что миссис Кейсобон сделает ему это одолжение, и Доротея тотчас спросила:
– Где мне сесть?
Науман, рассыпаясь в извинениях, попросил ее встать и позволить ему придать ей требуемую позу, что она и сделала, обойдясь без преувеличенных жестов и смешков, которые почему-то считаются обязательными в подобных случаях. Художник пояснил:
– Я хочу, чтобы вы приняли позу святой Клары. Наклонитесь, вот так, ладонь приложите к щеке… Да-да, так. Смотрите, пожалуйста, на тот табурет… Вот так!
Уилл боролся с желанием пасть к ногам святой и облобызать край ее одеяния, а также с искушением закатить пощечину Науману, который взял ее за локоть, показывая, как нужно согнуть руку. Какая наглость! И какое кощунство! Зачем только он привез ее сюда?
Художник работал с увлечением, и Уилл, опомнившись, спрыгнул со стремянки и постарался занять мистера Кейсобона разговором. Однако, несмотря на его усилия, время для этого последнего, по-видимому, тянулось нестерпимо медленно: во всяком случае, он выразил опасение, что миссис Кейсобон, наверное, устала. Науман не стал злоупотреблять его терпением и сказал:
– А теперь, сударь, если вы опять готовы оказать мне одолжение, я освобожу вашу супругу.
И мистер Кейсобон перестал торопиться, а когда тем не менее выяснилось, что голове святого Фомы Аквинского для полного совершенства требуется еще сеанс, он изъявил согласие позировать и на следующий день. Во время этого второго сеанса святая Клара также получила не одно исправление. Конечный результат настолько угодил мистеру Кейсобону, что он решил приобрести полотно, на котором святой Фома Аквинский в обществе других богословов вел диспут, слишком отвлеченный, чтобы его можно было изобразить, но более или менее интересный для слушателей на галерее. Святой же Кларой Науман остался (по его словам) весьма недоволен и не мог обещать, что сумеет превратить набросок в хорошую картину, а потому дальше предварительных переговоров дело не пошло.
Я не стану останавливаться ни на шуточках по адресу мистера Кейсобона, которые Науман отпускал вечером, ни на его дифирамбах очарованию Доротеи. Уилл присоединялся к нему и в том, и в другом, но с одним различием. Стоило Науману упомянуть ту или иную особенность ее красоты, как Уилл начинал негодовать на его дерзость: самые обычные слова тут звучали грубостью, да и какое право имеет он обсуждать ее губы? О ней нельзя говорить как о других женщинах. Уилл не мог прямо высказать то, что чувствовал, но его душило раздражение. А ведь когда после некоторого сопротивления он согласился привезти мистера Кейсобона с супругой в мастерскую своего друга, согласие это во многом было продиктовано гордостью при мысли, что именно он дает Науману возможность изучить ее красоту… нет, ее божественную внешность, ибо к ней неприложимы эпитеты и сравнения, предназначенные для описания только телесной прелести. (Бесспорно, обитатели Типтон-Грейнджа и его окрестностей, как и сама Доротея, весьма удивились бы подобному преклонению перед ее красотой. В тех краях мисс Брук считалась всего лишь «хорошенькой».)
– Сделай милость, оставь эту тему, Науман. Миссис Кейсобон нельзя обсуждать, словно простую натурщицу, – объявил Уилл, и Науман уставился на него с недоумением.
– Schӧn! Я буду говорить о моем Аквинате. Как тип голова вовсе не так уж плоха. Сам великий схоласт тоже, наверное, был бы польщен, если бы его попросили позировать для портрета. Чего-чего, а уж тщеславия у этих накрахмаленных ученых мужей предостаточно. Как я и думал, ее портрет был ему интересен куда меньше его собственного.
– Проклятый самодовольный педант с водой в жилах вместо крови! – воскликнул Уилл, чуть не скрежеща зубами. Его собеседник ничего не знал о том, какими обязательствами он связан с мистером Кейсобоном, но Уилл как раз вспомнил о них и пожалел, что не может тут же выписать чек, чтобы возместить мистеру Кейсобону эти расходы.
Науман пожал плечами.
– Хорошо, что они скоро уезжают, мой милый. Из-за них твой прекрасный характер начинает портиться.
Все надежды и усилия Уилла были теперь сосредоточены на том, чтобы увидеть Доротею, когда она будет одна. Ему хотелось стать для нее хоть чем-то – пусть он запечатлеется в ее памяти более ясно, а не останется всего лишь мимолетным воспоминанием. Ее безыскусственной доброжелательности ему было мало: он понимал, что так она относится ко всем. Преклонение перед женщиной, вознесенной на недосягаемую для них высоту, играет большую роль в жизни мужчин, но, преклоняясь, они почти всегда жаждут быть замеченными своей царицей, жаждут какого-нибудь знака одобрения от владычицы своей души, который она может подать, не сходя с престола. Именно этого и хотел Уилл. Однако в его мысленных требованиях было немало противоречий. Когда глаза Доротеи обращались на мистера Кейсобона с супружеской тревогой или мольбой, это было прекрасно: она утратила бы часть своего ореола, если бы менее строго следовала велениям брачного долга, и тем не менее в следующий миг Уилл выходил из себя – ведь подобный нектар изливался на песок пустыни! И желание обрушить язвящие слова на мужа, который не стоил ее мизинца, было тем мучительней, что веские причины вынуждали его оставлять эти слова невысказанными.
К обеду на следующий день Уилла не пригласили, а потому он убедил себя, что по долгу вежливости должен явиться с визитом, приурочив его к дневным часам, когда мистера Кейсобона не будет дома.
Доротея, оставшаяся в неведении о том, что, приняв Уилла в прошлый раз, она вызвала неудовольствие мужа, вновь без колебаний приняла его – ведь к тому же визит этот мог быть прощальным. Когда Уилл вошел, она перебирала камеи, которые купила для Селии. Непринужденно поздоровавшись с ним, она показала ему браслет с камеей, который держала в руке, и сказала:
– Я так рада, что вы пришли! Может быть, вы разбираетесь в камеях и подтвердите, что они действительно неплохи. Мне хотелось заехать за вами, когда мы отправлялись их покупать, но мистер Кейсобон сказал, что у нас нет на это времени. Свои занятия здесь он завершает завтра, и через три дня мы уезжаем. Но я как-то не уверена в этих камеях. Садитесь же, прошу вас, и поглядите на них.
– Я далеко не знаток, но в геммах на гомеровские темы ошибиться трудно. Они на редкость хороши. И такие прекрасные оттенки, словно созданные для вас.
– О, это подарок моей сестре, а у нее совсем другой цвет лица. Вы видели ее тогда со мной в Лоуике – у нее белокурые волосы, и она очень хороша собой, во всяком случае, по моему мнению. Мы никогда еще не разлучались так надолго. Она удивительно милая и добрая. Перед отъездом мне удалось узнать, что ей хотелось бы иметь камеи. Вот почему меня огорчило бы, если бы они оказались недостаточно хорошими… для камей, – с улыбкой добавила Доротея.
– Значит, вам камеи не нравятся? – сказал Уилл, садясь в некотором отдалении от нее и следя, как она закрывает коробочки.
– Да. Откровенно говоря, они не представляются мне столь уж важными для человеческой жизни, – ответила Доротея.
– Боюсь, ваши взгляды на искусство вообще весьма еретичны. Но почему? Мне кажется, вы должны тонко чувствовать красоту, в чем бы она ни таилась.
– Вероятно, я во многих отношениях очень тупа, – сказала Доротея просто. – Мне хотелось бы сделать жизнь красивой, то есть жизнь всех людей. Ну, а колоссальная дороговизна искусства, которое словно лежит вне жизни и нисколько не улучшает мир, – от этого делается больно. Я помню, что оно недоступно большинству людей, и эта мысль портит мне всю радость.
– По-моему, такое сочувствие граничит с фанатизмом, – горячо сказал Уилл. – То же можно сказать о красивых пейзажах, о поэзии, обо всем прекрасном. Если вы будете последовательны, то должны ополчиться против собственной доброты и стать злой, лишь бы не иметь преимущества перед другими людьми. Нет, истинное благочестие в том, чтобы радоваться – когда можно. Это значит, что вы делаете все от вас зависящее, чтобы спасти репутацию Земли как приятной планеты. Радость заразительна. Невозможно взять на себя бремя забот обо всем мире, вы куда больше помогаете ему, когда радуетесь – искусству ли или чему-нибудь еще. Неужто вы хотели бы преобразить всю юность мира в трагический хор, стенающий по поводу горестей и бед или выводящий из них мораль? Боюсь, вы ложно веруете, будто всякое несчастье уже добродетель, и хотите превратить свою жизнь в мученичество. – Уилл спохватился, что зашел дальше, чем намеревался, и умолк. Но Доротея поняла его слова по-своему, а потому ответила с полным спокойствием: