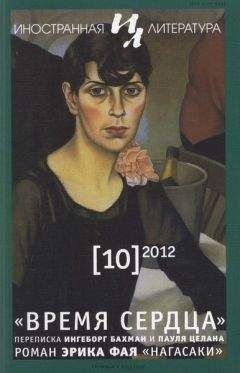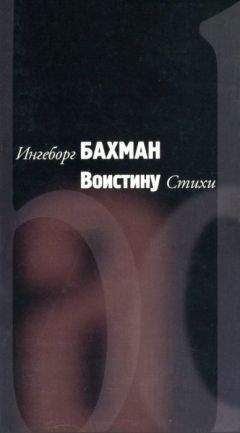Джордж Элиот - Мидлмарч: Картины провинциальной жизни
Время от времени – хотя и нечасто – Уилл обращался к Доротее и взвешивал ее суждения так, словно от них зависел окончательный приговор даже Мадонне ди Фолиньо или Лaoкоону. Ощущение, что ты вносишь свой вклад в общее мнение, придает беседе особую прелесть, да и гордости мистера Кейсобона льстило, что его молодая жена умеет поддерживать умный разговор куда лучше большинства женщин – недаром же он сделал ее своей избранницей!
Ни малейшая тень неудовольствия не омрачила обеда, и когда мистер Кейсобон сообщил, что намерен на день-другой прервать свои труды в библиотеке, а затем после краткого их возобновления покинуть Рим, где ему уже нечего будет делать, Уилл взял на себя смелость заметить, что миссис Кейсобон до отъезда непременно следовало бы посетить мастерскую какого-нибудь художника – и лучше не одну. Как считает мистер Кейсобон? Жаль упустить такую возможность: ведь это нечто совсем особенное – жизнь, подобная зеленой траве, полной жужжания насекомых среди величественных руин. Уилл был бы счастлив сопровождать их – не больше двух-трех мастерских, ровно столько, чтобы они не устали и не утратили интереса.
Мистер Кейсобон заметил умоляющий взгляд Доротеи и учтиво осведомился, не желает ли она поехать: он весь день будет в полном ее распоряжении. В конце концов было условлено, что Уилл зайдет за ними утром и будет их сопровождать.
Разумеется, Уилл не мог пропустить Торвальдсена – самого знаменитого из живших тогда ваятелей, о котором спросил сам мистер Кейсобон. Однако полдень еще не миновал, когда он повез их в мастерскую своего друга Адольфа Наумана, назвав его одним из виднейших обновителей христианского искусства, не только воскресивших, но и углубивших замечательное представление о священных событиях как о таинствах, к которым становятся причастны все последующие века, так что великие духом люди новых поколений делаются словно их современниками. Уилл добавил, что Науман был его учителем.
– Я сделал у него несколько этюдов маслом, – продолжал Уилл. – Всякое копирование мне претит. Я в любой набросок должен вкладывать что-то свое. Науман пишет «Святых, влекущих колесницу Церкви», а я написал этюд на тему, почерпнутую из Марло[89], – «Тамерлан в колеснице, запряженной побежденными царями». Я не разделяю экклезиастических увлечений Наумана и иногда посмеиваюсь над необъятностью смысла, который он пытается вложить в свои картины. Но теперь я решил превзойти даже его. Для меня Тамерлан в его колеснице знаменует неумолимый ход истории, чей кнут не щадит впряженные в нее династии. На мой взгляд, это недурное мифологическое истолкование. – Тут Уилл взглянул на мистера Кейсобона, который принял столь небрежное обхождение с символизмом без особого удовольствия и лишь вежливо наклонил голову.
– Набросок, несущий такой смысл, должен быть замечательным, – сказала Доротея. – Но мне хотелось бы, чтобы вы подробнее объяснили свой замысел. Ваш Тамерлан должен воплощать землетрясения и вулканы?
– Да-да! – ответил Уилл, смеясь. – А также переселение народов и расчистку лесов… и Америку, и паровоз. Короче говоря, все, что можно вообразить.
– Какой трудный алфавит! – сказала Доротея, улыбнувшись мужу. – Прочесть его смог бы только человек с вашими знаниями.
Мистер Кейсобон заморгал и покосился на Уилла. У него возникло подозрение, что над ним смеются. Впрочем, заподозрить в этом Доротею он не мог.
Они застали Наумана за мольбертом, но ему никто не позировал: его картины были расположены наивыгоднейшим образом, жемчужно-серая блуза и лиловая бархатная шапочка очень шли к его некрасивому, но выразительному лицу – одним словом, все сложилось так удачно, как будто он ожидал красивую молодую англичанку именно к этому часу.
Художник объяснял сюжеты своих оконченных и неоконченных полотен, говоря по-английски с обычной уверенностью, и казалось, рассматривал мистера Кейсобона не менее внимательно, чем Доротею. Уилл время от времени разражался пылкими похвалами, указывая на особые достоинства той или иной картины своего друга, и Доротея почувствовала, что начинает по-новому относиться к мадоннам, почему-то сидящим на тронах под балдахинами среди скромных сельских пейзажей, и к святым с архитектурными моделями в руках или ножами, небрежно воткнутыми в их затылки. То, что прежде ей казалось чудовищно нелепым, становилось понятным, а иногда даже обретало глубокий смысл, но мистера Кейсобона эта отрасль знания, по-видимому, совершенно не интересовала.
– Мне кажется, я предпочла бы просто ощущать красоту картины, чем разгадывать ее как шараду, но подобные произведения я все-таки научусь понимать гораздо быстрее, чем ваши с их всеобъемлющим смыслом, – заметила Доротея, обернувшись к Уиллу.
– В присутствии Наумана о моих картинах лучше не упоминать, – сказал Уилл. – Он объяснит вам, что все они – Pfuscherei[90], а более бранного слова в его лексиконе нет.
– Правда так? – спросила Доротея, глядя на Наумана серьезно и бесхитростно. Художник слегка поморщился и ответил:
– Живопись для него не призвание. Ему следует попробовать себя в литературе. Уж она-то достаточно ши-ирока-а.
В произношении Наумана последнее слово получилось насмешливо растянутым. Уиллу это не слишком понравилось, но он сумел засмеяться, и мистер Кейсобон, хотя немецкий выговор художника его раздражал, почувствовал некоторое уважение к строгости его суждений.
Уважение это не стало меньше, когда Науман отвел Уилла в сторону, поглядел на какое-то большое полотно, затем на мистера Кейсобона и, вернувшись к своим посетителям, сказал:
– По мнению моего друга Ладислава, вы извините меня, сударь, если я скажу, что набросок вашей головы был бы бесценен для фигуры святого Фомы Аквинского, над которой я сейчас работаю. Это значило бы чрезвычайно злоупотребить вашей любезностью, но я так редко вижу то, что мне нужно – идеальное в реальном.
– Вы меня весьма удивили, сударь, – сказал мистер Кейсобон, но его щеки окрасил румянец удовольствия. – Однако если моя физиономия, которую я привык считать самой заурядной, может подсказать вам какие-то черты ангельского доктора[91], я буду весьма польщен. То есть при условии, что это не займет много времени и что миссис Кейсобон не станет возражать против такой задержки.
Но Доротея была только очень рада – больше ее мог бы обрадовать разве что божественный глас, который провозгласил бы мистера Кейсобона самым мудрым и достойным из сынов человеческих и вернул бы твердость ее поколебавшейся вере.
Все необходимые принадлежности были у Наумана под рукой просто в удивительной полноте, и он тотчас принялся за этюд, ни на минуту не прерывая их беседы. Доротея сидела в безмятежном молчании – она давно уже не чувствовала себя такой счастливой. Какие прекрасные люди! Только невежество, подумала она, помешало ей увидеть красоту Рима, ощутить, что его печаль овеяна надеждой. Ей была свойственна редкая доверчивость: в детстве она полагалась на благодарность ос и благородную чувствительность воробьев, а затем, когда они обманывали ее ожидания, в той же мере негодовала на их низость.
Хитрый художник задавал мистеру Кейсобону вопросы об английской политике и выслушивал длиннейшие ответы, а Уилл, примостившись на стремянке в углу, оглядывал общество со своей высоты.
Через некоторое время Науман сказал:
– Если бы я мог отложить этюд на полчаса, а затем еще раз над ним поработать… Погляди-ка, Ладислав! По-моему, лучшего пока трудно пожелать.
Уилл разразился междометиями, подразумевающими восторг, который невозможно выразить словами, а Науман жалобно вздохнул:
– Увы… вот если бы… Мне нужно еще только полчаса… Но вас ждут дела… Я не решаюсь затруднить вас такой просьбой… а о том, чтобы вы приехали завтра…
– Ах, останемся! – воскликнула Доротея. – У нас ведь сегодня нет никаких дел? – добавила она, умоляюще глядя на мистера Кейсобона. – Будет так жаль, если этюд останется незавершенным.
– Я к вашим услугам, сударь, – произнес мистер Кейсобон со снисходительной любезностью. – Раз моя голова сегодня внутри предается праздности, пусть поработает ее внешняя оболочка!
– Вы так добры! Теперь я счастлив! – воскликнул Науман, повернулся к Уиллу и продолжал по-немецки, указывая на этюд, словно что-то требовало обсуждения. Затем отложил его и рассеянно поглядел по сторонам, как будто раздумывая, чем занять своих посетителей. И наконец сказал, обращаясь к мистеру Кейсобону:
– Может быть, прекрасная новобрачная, милостивая госпожа, не откажет мне в разрешении сделать с нее набросок, чтобы как-то заполнить эти полчаса. Не для картины, разумеется, а так просто.
Мистер Кейсобон с поклоном выразил уверенность, что миссис Кейсобон сделает ему это одолжение, и Доротея тотчас спросила:
– Где мне сесть?
Науман, рассыпаясь в извинениях, попросил ее встать и позволить ему придать ей требуемую позу, что она и сделала, обойдясь без преувеличенных жестов и смешков, которые почему-то считаются обязательными в подобных случаях. Художник пояснил: