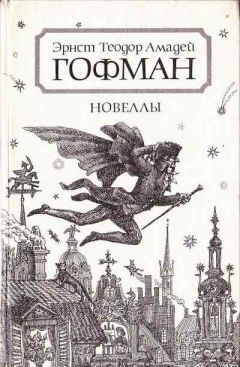Белькампо - Избранное
— А тебе не приснилось? — спросил я.
— Нет, папа, я с ней разговаривала, и она сегодня вечером снова придет. Все куклы живут сейчас в пакгаузе Блоухуденфейм, и на празднике они так танцевали и бесились, что у нее не двигается одна ножка — растяжение резинки. Она спросила, не могу ли я ей помочь, как раньше, вы ведь тоже говорили, что у меня ловко получается.
Я сказала ей, что не смогу работать без света и необходимых принадлежностей. Завтра она пробудет у нас целый день, потому что, пока светло, ей носа на улицу нельзя высовывать. Могут быть большие неприятности, если кто-нибудь заметит, что она тайком ходит к людям. Ей повезло: у нас дверь была открыта.
Мне так было с ней хорошо, и у нее такой милый голосок, она просто ужасно была рада, что вернулась. Но ей страшно не понравилась моя постель. Я у нее спросила: «А что, если дом про тебя все расскажет?» Но дома, оказывается, разговаривать не умеют: для этого надо, чтобы что-нибудь дрожало, а у домов ничего такого нет, поэтому во время землетрясений они разваливаются.
Перед уходом она спросила, не сердимся ли мы на вещи и не разлюбили ли за это и ее. Может, с атомными бомбами и вправду нельзя было иначе, но сейчас ей так грустно, и на праздник она пошла только потому, что уродилась веселой и ее всегда тянет туда, где танцуют. «Ах, Маартье, — сказала она, — если бы ты и раньше могла меня понимать, ты еще сильнее любила бы меня и вылечила».
Потом она погладила меня по щеке и поцеловала. «Мне, Маартье, нужно быть с тобой, а не среди вещей. Ну, до завтра». И она крадучись выскользнула из дома.
Я знаю точно, мне это не приснилось. Когда она ушла, я не могла заснуть и все ждала, когда же вы проснетесь, чтобы все вам рассказать.
От возбуждения Маартье раскраснелась, она знала, что ее сообщение обрадует нас и обнадежит.
— Да, вот еще что: я спросила ее, почему она обратилась к нам, ведь вещи сами все умеют. Тогда она задумалась и только гладила мою руку, как будто собиралась сделать очень трудное признание, а потом сказала: «Мы способны вырабатывать огромное количество энергии и делать еще многое другое, как нам положено, но мы не умеем самостоятельно творчески мыслить. Ты в этом сама могла убедиться на празднике».
Конечно же, ни о каком сновидении здесь не могло быть и речи. Маартье отличалась сообразительностью, но придумать такое, пусть даже во сне, показалось нам совсем невероятным.
Итак, завтра ожидается гостья — Мимиенпоп.
Даже визит члена королевской фамилии не вызвал бы у нас большего желания вылизать все до блеска. Тщательнейшим образом мы выдули все до пылинки в комнатах, сохранив лишь детские пылевые гравюры и барельефы. Маартье разгладила свою постельку, и втроем они нарисовали на ней нарядное покрывало, совсем позабыв, что эту-то ночь Маартье должна здесь спать. Себе мы тоже устроили банный день и «вымылись», удаляя грязь с тела «катышковым» методом. Процедура очищения кожи и волос длилась несколько часов, причем без обычного «не хочу — не буду», с радостным блеском в глазах и неумолкающими шутками. Когда опустился вечер и помещения были прибраны как для визита на высшем уровне, нам, родителям, большого труда стоило угомонить расходившуюся детвору.
Заснули все гораздо позже обычного, к Маартье же сон не приходил.
Мы с женой еще долго перешептывались: новая затея захватила и нас. А что, если куклы — вроде как собаки в мире вещей, душой и телом преданные человеку? Может, Мимиенпоп просветит нас насчет событий в мире? Будет ли она приходить к нам после того, как мы ее вылечим? Не опасно ли для нас тайное общение с вещами? А как другие куклы и вообще комнатные вещи — может, они тоже заглянут в наш дом и попросят их починить? Мы задавали друг другу вопросы и сами же пытались ответить на них. В конце концов мы решили, что лучше нам сейчас заснуть, не дожидаясь прихода Мимиенпоп, а уж утром и поздороваемся с ней. Мы проснулись от легкого прикосновения целлулоидных пальчиков.
— Здравствуйте, здравствуйте, я пришла! — Действительно это была Мимиенпоп.
Она уже не могла похвастаться былой привлекательностью — с тех пор как Маартье переросла для ее компании, кукла, забытая всеми, валялась в углу, и лишь время от времени мальчишки выволакивали ее на свет божий для своих шумных забав, отчего страдала ее внешность, но не характер — она оставалась той же Доброй и верной куклой наперекор всем невзгодам. У нее был легкий и чистый голосок, напоминающий звон хрустальных бокалов. Она носила платьице.
— Здравствуй, Мимиенпоп, решила к нам заглянуть? У нас многое изменилось с тех пор, как вы все удрали.
Мне показалось не очень разумным, что жена с места в карьер заговорила об этом, хотя ее тоже можно понять. Мы — в чем мать родила, а Мимиенпоп — в нарядах, сшитых, кстати сказать, нами же. Если людей мы уже не стеснялись, то ее присутствие нас смущало.
— Но вы же понимаете, моей вины здесь нет, мы были вынуждены, нам просто приказали, a Befehl ist Befehl.[93] Маартье рассказала мне обо всем, что тут произошло с тех пор, как нас эвакуировали. Теперь, когда я могу разговаривать или, вернее, она может меня понимать, мы снова подружились и она не чувствует разницы в возрасте. Погодите-ка. — Мимиенпоп запрыгала в уголок комнаты на одной ножке, так как вторая беспомощно болталась, сбросила там свой праздничный наряд и повернулась к нам лицом, голенькая даже больше, чем мы, потому что все ее тельце блестело и виден был каждый суставчик, этого порыва было достаточно, чтобы наша любовь к ней не только вернулась, но и разгорелась с еще большей силой. — Мне же сейчас будут делать операцию, — сказала она весело и, как в старые добрые времена, села рядом.
Йапи и Балтазар между тем тоже проснулись и хотели было первыми схватить куклу.
— Ну нет, — прикрикнула жена, — Мимиенпоп опять дружит с нашей Маартье, а вам с ней можно только разговаривать, и больше ничего.
Тогда мальчики поздоровались с нею как… чуть было не сказал — как с человеком.
После завтрака, во время которого Мимиенпоп сидела, вернее, полулежала вместе со всеми, но ничего, конечно, не ела и в основном молчала, мы решили заняться ее больной ножкой. Самая ответственная работа — а здесь требовались тонкие и гибкие пальцы — выпала на долю Маартье. Резинка выскальзывала из рук, и надо было, удерживая сустав максимально широко открытым, укоротить ее так, чтобы фиксация была надежной.
Операция завершилась блестяще — головка вошла в чашечку, и сустав теперь работал не хуже прежнего. Мимиенпоп вприпрыжку пустилась по комнате, перескакивая от одного к другому, и, не помня себя от радости, в шутку пинала всех по очереди только что отремонтированной ножкой, чтобы показать, как она работает.
Сначала такое проявление восторженных чувств показалось нам вполне естественным, но ведь Мимиенпоп, вдруг мелькнуло у меня в голове, вещь, и я насторожился. Не кто иная, как сама наковальня, внушала нам мысль, что идеалом любой вещи является покой.
— Послушай, Мимиенпоп, может, я заблуждаюсь, но вы, вещи, сами говорили, что стремитесь лишь к покою, что в нем — ваше единственное счастье, так почему тебя волнует больная нога, почему ты радуешься, что снова можешь бегать? В голове не укладывается. — Я осекся, поскольку чуть было не ляпнул: со сломанной ногой и отдыхать приятнее.
Мимиенпоп остановилась, подошла ближе и, выдержав многозначительную паузу, произнесла:
— Вы представляете себе нас чересчур упрощенно. Далеко не все мы без ума от покоя, и на празднике в этом легко можно было убедиться. А что для наковальни нет большего блага, чем покой, вполне понятно.
Наше общество неоднородно, у нас тоже есть политические партии. Как раз на первых-то собраниях это и выяснилось.
Ладно, сейчас я в общих чертах изображу всю нашу кухню. У меня есть голова на плечах, а это уже кое-что. Маартье, иди сюда, тебе тоже не вредно послушать.
Ну вот, нам с самого начала не доверяли — всем, кому с вами жилось вольготно, с кем возились, кого ласкали и оберегали, то есть нам, игрушкам, и всяким крупным да ценным вещам. Пожили в свое удовольствие, пора, мол, и честь знать. А что касается вещей, в которые перешла частичка человеческого сердца — я говорю о предметах искусства, — то в новом обществе они совершенно бесполезны, и их презирают.
В самом начале не было лучших ораторов, чем книги. «Он говорит как по писаному» — это выражение было тогда у всех на устах.
Но в один прекрасный день до председателя вдруг дошло, что книги читают сами себя, а вещи, развесив уши, слушают людские премудрости. Разразился скандал, и книгам с тех пор запрещено выступать в общественных местах.
Нас они ни во что не ставят, поскольку в нас много от человека, нас повсюду затирают, и эта затея с революцией не вызывала среди наших никакого сочувствия, и если б я не ждала нового переворота, то умерла бы от тоски. Так же думают все вещи, которые вы любили.