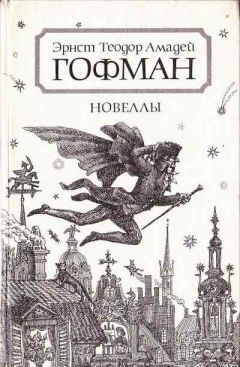Белькампо - Избранное
Оркестр заиграл еще громче, а оба крана, подъехав к Центру поля, остановились, и ноша каждого зависла в воздухе над зачехленным предметом. Горностаевая мантия тем временем перестала раскачиваться, затихла.
Неподвижность трех таинственных предметов внезапно передалась оркестру, один за другим инструменты замирали в оцепенении, над стадионом воцарилась тишина, величавая и торжественная.
Гостевые трибуны затаили дыхание, даже дети не подавали голоса.
Вдруг по оркестровой меди пробежала легкая дрожь — и чехол, скрывавший самый верхний предмет, плавно заскользил вниз. Теперь все мы увидели: на фоне голубого неба в лучах солнца сверкала корона Нидерландов.
Во второй раз всколыхнулась медь. Королевская мантия упала, и нашим взорам явилась грозная громадина — наковальня, не щегольски надраенная, но черная от копоти, прямо из кузницы, живой памятник долготерпения вещей и их силы, бык среди вещей.
Медь вздрогнула в третий раз. И сползло серое покрывало с нижнего предмета. Это был — трон Нидерландов.
Наковальня парила в тронно-коронном пространстве.
Из туго натянутых телячьих кож вырвалась сухая дробь. Медленно-медленно державный венец стал опускаться на наковальню, захваты разжались, акт коронации свершился. Так стал реальностью забившийся в самый темный уголок мало кому известный геральдический барельеф на фронтоне одного из домов по Халвемаанстейх. Но лишь на одно мгновение: под неутихающую барабанную дробь второй грейфер вдруг разжал челюсти, и наковальня плюхнулась на престол, сокрушая его своей тяжестью. Рухнули балдахин и седалище, отвалились поручни и ножки, корона от сотрясения распалась на сверкающие куски.
В следующую секунду мир взорвался бешеным каскадом звуков, в сравнении с которым ликование по поводу гола, забитого в матче Голландия — Бельгия, прозвучало бы мышиным писком. Инструменты все как один выкладывались буквально до последнего. Грохотали барабаны, завывали трубы, рычали контрабасы, лопаясь, разрываясь на части.
Порой невозможно было понять, отчего мы глохли — от этой вакханалии звуков или оттого, что звуки достигли запредельных для восприятия частот. Многие из присутствующих корчились, как под градом палочных ударов.
Все одежные сословия на противоположной стороне устремились в центр футбольного поля, чтобы вкруг наковальни и останков символов государственной власти учинить разнузданный пляс, сначала по кругу, изображая полонез, потом кто во что горазд: буги-вуги и готтентотский рикси, биг-чарльстон и хакл-чакл, замба-милонга и калифорнийский хэлу. Они тряслись, как горошины в решете, не забывая при этом поддерживать друг друга с суперсветской элегантностью. И сами музыкальные инструменты, смешавшись с толпой, затряслись, завертелись, задергались в конвульсии ритмов, изрыгая истошные визги. Кое-кого из наших тоже захватил и увлек за собой этот вихрь, хотя они, очевидно, не понимали или не желали понимать, что им надо делать, поскольку давным-давно забыли, что такое танцы. Ну и пусть идут. В конце концов, это были единицы, а уж представление в духе рейссенского вербного воскресенья[91] нам, понятно, не грозило.
К моей жене подрулил некий господин и пригласил ее на танец, он поклонился и при этом воровато стрельнул взглядом в мою сторону. Я осадил его. Он принялся извиняться, что, мол, прелести моей подруги ослепили его, заслонили собою возможные препятствия и что высокое почтение к ней останется ему единственной утехой.
Впервые с той минуты, как мы попали на стадион, ее губы тронула улыбка.
Контраст между изысканным содержанием его слов и тем, как он преподносил их, надрываясь, чтобы мы разобрали хоть что-то, не мог не развеселить.
Я молча сделал жене знак коротким кивком головы, как бывало и раньше на концертах или в театре: мол, пора на свежий воздух. Она согласилась. Мы взяли детей за руки и повернулись спиной к разочаровавшему нас действу. Многие поступили так же. Детям этот праздник давно наскучил.
Мы беспрепятственно добрались до выхода, и ни одна вещица не обратила на нас внимания, так они были поглощены собой. Путь к дому можно было назвать опасным разве что из-за проносящихся мимо на бешеной скорости всевозможных колесных механизмов да из-за кастрюль и прочих предметов, падающих на тротуар, когда какой-нибудь дом поблизости, поддаваясь охватившему всех ликованию, пытался веселиться.
До дому мы добирались часа два, причем не просто Шли, но и бежали, и отскакивали в сторону, и прятались в подворотнях и подъездах от праздничного веселья, точнее, праздничного сумасшествия, и в конце концов очутились на нашей Спинозастраат. Дом стоял нараспашку, но осколков стекла и черепицы рядом не было, стены не потрескались, балконы не перекосились, двери по-прежнему висели на своих петлях — к счастью, наш дом оказался спокойным и разумным.
Едва волоча ноги, мы поднялись по лестнице к себе, опустошенные и разбитые, дети — в расстроенных чувствах. Но тотчас раздался их ликующий индейский клич. Схватив нас за руки, они вприпрыжку потянули нас в комнату, к «шкафу». Там красовалось похожее на огромный тюрбан кондитерское произведение с коринкой и изюмом. Дети были вне себя от восторга, а мы, ну что же, мы на всю жизнь запомнили ужасы голодных лет и знали, как подобные вещи могут растрогать, для этого вовсе не нужно быть изощренным гурманом.
И в этой нечаянной радости таилась частичка уверенности: для нас еще не все потеряно. Что ни говори, а пригласили нас не с целью унизить и лишить всяких иллюзий. Нас пригласили как сограждан государства вещей, в надежде, что мы успели одуматься и покончить с нашим человеческим прошлым, а потому примем участие во всеобщем празднестве — так они думали, но ошиблись по причине полнейшего незнания людской натуры. Отказаться от прошлого и внушить себе, что ты — вещь, нет, для этого нужно очень много времени.
Невольно мне вспомнился рассказ мамы, из ее далекого детства. Как-то во время увеселительной прогулки на яхте один из моих дядьев, некогда перенесший тиф и вынужденный носить парик, упал в воду. Парик слетел с головы и закачался на волнах рядом. Развернувшись, как положено в ситуации «человек за бортом», они первым делом принялись вылавливать багром этот самый парик, а когда операция по его спасению успешно завершилась, с яхты до моего дядюшки, который почти не умел плавать и из последних сил держался на воде, донесся ободряющий крик (дело происходило во Фрисландии): «Ничего, приятель, не все сразу, вытаскивать — так по частям!»
В свете дальнейшего развития подобные вещи приобретают совершенно иное значение. Поэтому и историография не стоит на месте, на всё в этом мире постоянно приходится смотреть через новые очки.
Но что бы там ни было, сейчас перед нами стоял наш тюрбан. Косичкой, сплетенной из пяти волосков Маартье, жена разделила его на части. Таким же способом корсиканские женщины обычно разрезают поленту. Мы за обе щеки уписывали лакомство, время от времени обмениваясь красноречивыми взглядами, и гудели, как пчелиный рой.
Веселье за окнами бушевало весь день, и чем дальше, тем больше покалеченных вещей ковыляло мимо нас на своих двоих по домам, хотя и ног у них не было, а возможно, и дома — просто так казалось со стороны. К ночи все затихло, и на следующее утро о празднике осталось одно воспоминание.
День прошел как обычно, только настроение наше заметно упало, в перспективе не предвиделось ничего значительного, и мы призадумались: стоит ли продолжать наши занятия? Второй тюрбан нам не несли. Земное царство вещей, похоже, утвердилось на века, но нам от него ждать было нечего.
Спать мы легли рано. Сны, и только сны, — вот единственное, что нам оставалось: нам виделась былая жизнь, свобода, беспредельная власть над вещами. Возвышенного смысла исполнились для нас слова Гёльдерлина: когда человек спит — он король, но когда рассуждает — он нищий. Кажется, так у него в «Гиперионе».
Наутро Маартье, проснувшаяся раньше всех, уже сидела в своей постели. «Мое пылевое гнездышко», так она ее называла. Глаза девочки были широко раскрыты, малыши еще спали.
— Мама, папа. Я вам сейчас что скажу, — зашептала она с какой-то хрипотцой в голосе. — Под большим секретом. — Она сделала нам знак сесть поближе и продолжила совсем тихо, на ушко. — Сегодня ночью у меня была Мимиенпоп.[92]
Новость действительно потрясающая. Мимиенпоп была самая первая и самая любимая кукла Маартье. У нее была смышленая жизнерадостная мордашка, за что мы сразу полюбили ее, и эту свою жизнерадостность она пронесла через все перипетии кукольного бытия. Из года в год она садилась с нами за стол, укладывалась с Маартье в кроватку, и, лишь когда появились Йапи и Балтазар, она как член семьи отошла несколько на второй план, хотя неизменно пользовалась нашей глубокой симпатией.