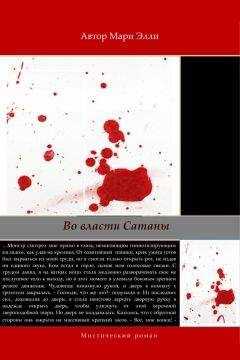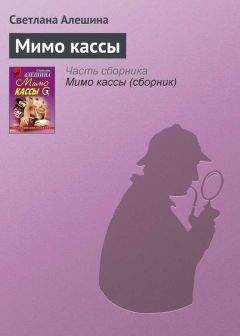Федор Кнорре - Без игры
Она стояла, растерянная, и слушала то, что без умолку, без остановки, равнодушно и неумолчно выкладывала Дарья. Как многим одиноким старикам, ей необходимо было только говорить и говорить про свое, если есть кому слушать.
Разговор был для тех дней самый обыкновенный: перечисление, кто из знакомых баб и когда получил похоронку, сколько осталось ребят, кто вернулся живой, кто покалеченный. А Наташа давно ничего уже не слушала, только сосредоточенно старалась понять то, что старуха мельком, в длинной цепи перечислений, равнодушно проговорила: „А Митька-то, помнишь Митьку, он сюда к вам являлся, так он живой вернулся, только обе ноги, говорят, у него отшибло на фронте, безногий стал. Люди видали, он все с другим каким еще инвалидом по шалманам пьянствует тут гдей-то, все возвращаются по нашему району“. После этого вот дальше Наташа и не слышала ничего.
На дворе был еще белый день, а в шалмане зажженные лампочки плавали в пластах табачного дыма, и было похоже, как будто там уже наступила ночь. Стоял немолчный гул голосов множества людей, теснившихся у стойки или жавшихся в толстой зимней одежде вокруг маленьких столиков.
Она открыла дверь и сразу же окунулась в духоту, разноголосый гомон, в сумрак нереального мирка, стеснившегося в длинном сарае, чтоб отгородиться от окружающего светлого, ясного, морозного дня.
Протискиваясь к стойке, она у всех расспрашивала, сначала потихоньку, потом поневоле громко, наконец чуть не криком, все одно и то же: не видали ли кто тут безногого?.. Да, инвалида!.. Да, наверное, в солдатском.
Безногого видали уже в первом же шалмане, куда она зашла. Вчера. Или на днях. Наконец один буфетчик понимающе усмехнулся, не отрывая глаз от стопки, которой он отмеривал и разливал по стаканам водку.
— Да, они с товарищем оба только-только тут были, гражданочка! Недавно уехали по своим личным делам.
— Как... уехали? — ужасаясь понять, переспросила она.
— Хромой-то сам ушел. А другой уехал. Он же на своих персональных колесах! Не знаешь, как ездиют? Обеими руками поддает на третьей скорости!
— О, еще через ступеньки скачет! Как козел!
— Да ты не ври, он теперь на салазках! Как по снегу забуксует! Тут его товарищ за шкирку и вытащит, поехали, значит, дальше.
Со всех сторон послышались советы, вопросы — не жениха ли она ищет? Или мужа потеряла? Без ног, а удрал! Вот это пфейфер! Наташа делалась уже центром внимания, стояла под градом насмешливых, все более разнузданных советов, предложений и предположений.
— Хватит вам похабничать, вы, такие-растакие... — возмущенным матом с буйной силой гаркнул хрипатый голос. — Девушка зашла, про инвалида спрашивает, а вы кобельничать! Мать вашу туды...
— Эко чего, может, я сам инвалид!
— Ты еще не инвалид, а я тебя сейчас сделаю! — вмешался новый голос. — Девушка, они в бане. Они в баню направились!
Возникли еще новые или, может быть, вдруг разом переменившиеся прежние голоса, все заговорили добродушно, участливо:
— Точно! Это точно: в баню! Кулек с ними был, с бельем. В баню, так он и сказал.
— Какую там баню!.. Откуда ты баню взял?
— Верно, верно, у хромого кулек под мышкой был! Был кулек! А тот так поехал. Они, значит, вместе!
Наступал уже темный вечер. В бане был „мужской“ день. Она встала в тени от светового круга лампочки у входа, у обледенелой водосточной трубы, откуда хорошо было видно крыльцо.
Бухала входная дверь на тугой пружине, появлялись время от времени распаренные мужики, кутаясь в шарфы, поднимали воротники пальто и шинелей и, нагибая голову от ветра, согнувшись, тут же исчезали в полутьме еле освещенной улицы.
Каждый раз, как только начинала приоткрываться дверь темного тамбура, выпуская кого-нибудь под свет лампочки, Наташа замирала в томлении ужаса ожидания. И смотрела не на лица выходивших, а им в ноги. Один за другим выходили счастливцы — все на двух ногах, в валенках, в солдатских сапогах. Даже в каких-то опорках, ежась в узеньком пальтишке, старичок ковыльнул с последней ступеньки и, не подозревая своего счастья, суетливо зашаркал обеими ногами по тротуару. Баня была очень старая, темного красного кирпича, отбитого во многих местах по углам, где был въезд во двор. Она заглянула за угол. Вдоль стены тянулся ряд освещенных окон бани. За ними двигались и мелькали какие-то тени. Стекла были почти доверху матовые, затянутые сетчатой решеткой.
Она нерешительно пошла под окнами, продолжая чутко прислушиваться, не бухнет ли входная дверь. Стекла оказались не матовые, а покрытые исцарапанной белой краской. Сквозь царапины неясно мелькало что-то белое, в облачках пара. Слышны были вскрикивающие голоса, плеск воды и стук шаек.
Сама не зная зачем, она стояла и ждала, знала только, что это ей необходимо, что это ужасно, но уйти невозможно, ничто не заставит ее уйти, что бы ее ни ждало.
Верхняя часть окон над поперечным переплетом была обыкновенного прозрачного стекла, она вдруг это сообразила и, не раздумывая, полезла на сложенные у забора, засыпанные снегом обледенелые дрова. Спотыкаясь, карабкалась на четвереньках, скользя на кругляках, и все оборачивалась, достаточно ли высоко забралась, встала на ноги, держась за забор, и увидела сверху пол, устланный серыми дорожками, диваны в полосатых чехлах и одевающихся полураздетых и голых людей. Она видела не всю раздевалку, только несколько диванов. Мужик в кальсонах и рубахе запрокидывал голову, прихлебывая из бутылки, и отдувался. Другой, повернувшись к окну голой спиной, с трудом пролезая в рукава, напяливал липнувшую к влажному телу рубаху.
Нелепо было неустойчиво моститься на скользких бревнах по колено в снегу, но она почему-то перестала даже прислушиваться к двери, хлопающей за углом. Она просто оторваться не могла от окна, смотрела, как выбегают, попрыгивая на холодном полу, голые мужики из окутанного паром проема двери в раздевалку и исчезают из поля ее зрения. И через какое-то время увидела то самое, ужасное, чего ждала: сразу трое пропихнулись из двери и им вдогонку вылетело облако пара. Один придержал дверь, чтобы свободно вышли двое других. Она увидела лохматую голову и тело человека-обрубка. Его нес на руках другой мужик, которого человек обнял одной рукой за шею, шаловливо болтая в воздухе обрубками ног. Два... три прихрамывающих шага, и они все скрылись за краем матового стекла. У нее закружилась на мгновение голова, она оступилась и съехала с бревен по снегу. Ее тошнило от всех этих голых мужиков и больше всего оттого, что этот... шаловливо болтал ногами, которых у него почти и не было.
„Я не смогу его так поднять, — стискивала свои слабые руки в отчаянии, — и почему ему весело? Это ужаснее всего“.
Неужто Митя стал пьяным инвалидом-весельчаком, каких она видела в шалманах? Нет, конечно, это притворство отчаяния. Ничего, с этим я справлюсь, я возьму и буду... ухаживать за тобой, Митя, бедный мой, пропащий Митя. Возьму за руку... дождусь и возьму за руку... Не брошу тебя так... пускай даже ты на тележке или на санках, застреваешь в снегу...
Ее била нервная дрожь, она совсем не чувствовала, как замерзли ноги, болят щеки и ломит от холода грудь. Не знала, что скажет и сделает, увидев Митю. Была уверенность только в одном: в ее жизни произошла какая-то полная, необратимая перемена, не может быть теперь как раньше. Будет что-то другое. Может быть, страшное, тяжкое, но другое.
Дверь на крыльцо растворилась, но не бухнула тотчас на тугой пружине, а дольше обычного оставалась открытой, и она безошибочно поняла: вот сейчас... вот сейчас она встретит то, что изменит, безвозвратно переломит ее жизнь.
Громко простучав по ступенькам железными полозьями, лихо скатились детские санки, и человек, сидевший на них, еще раз с силой оттолкнувшись руками, проскочил тротуар и врезался в сугроб так, что чуть не повалился на бок.
— Хулиганская морда!.. Лихач чертов!.. — крикнул другой, спускаясь следом за санками, сильно прихрамывая. Он вытащил санки с безногим из снега, взялся за веревку и потащил за собой по улице.
— Эй, берегись, задавлю! — весело покрикивал безногий.
Он нарочно вовсю толкался руками, наезжая хромому на пятки.
Все поплыло и спуталось в голове Наташи. Как во сне шла она за ними. Держась поодаль, старалась разобраться, что случилось, и ей казалось то одно, то другое. Они прошли длинную улицу, свернули в переулок, еще раз свернули, и наконец ей стало казаться: тот безногий на санках не может быть Митей, нет, она узнала бы его голос. Он не переставая нес какую-то пьяноватую развеселую чушь, а хромой только коротко, грубо отругивался сквозь шарф, и похоже было, это безногому нравится.
Когда товарищ на ходу его грубо одергивал, он заливался хохотом и сипатым пьяным голосом противно, представляя маленького, верещал: „Ой, дяденька миленький, чичас вывалюсь, ножки простужу!“
Наконец они свернули в какую-то калитку, подъехали к крыльцу и оглушительно заколотили в дверь. Им отворили сразу же, видно, ожидали. В освещенном проеме двери в облаке морозного пара появилась женщина. Она молча быстро нагнулась, ухватилась за веревку и потянула ее к себе, помогая втащить санки с безногим. Тот размахивал руками, упирался, хватался за косяки двери, всячески кобенился, кричал, что не желает, чтоб его втаскивали в дом. Завязалась дурашливая суматоха пьяной борьбы. Наконец хромой, что привез санки, разозлился, сбил руку безногого с косяка и, ругаясь сквозь стиснутые зубы, протолкнул сани через порог.