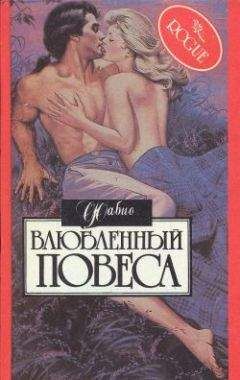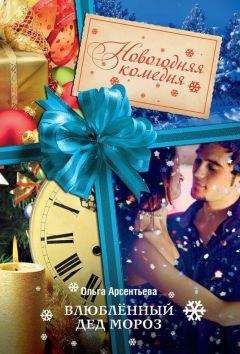Иван Лазутин - Суд идет
— Почему с Кирбаем? Сход или Кирбай решал вопрос о переселении нетрудовых элементов?
— Если хотите знать, то в первую очередь Кирбай, а потом уже сход. Принудительным административным выселением прежде всего занимается его отдел, и ему виднее, кто подпадает под этот Указ, а кто не подпадает.
— А это что? — Дмитрий протянул Круглякову документы Бармина, где рядом с орденской книжкой лежало пенсионное удостоверение. — Вы видите: инвалид Отечественной войны.
Кругляков надел очки и долго читал документы Бармина. Потом встал, молча прошелся вдоль стола и снова сел в кресло.
— Да, получилась неувязка. Признаться, я об этих биографических данных Бармина не знал. Документы готовили сельские Советы, а мы им верим, товарищ Шадрин. Хоть это маленькая власть, но она власть. Верим! — Кругляков развел руками.
— Вы должны были это знать. — На слове «должны» Дмитрий сделал ударение. — Вы должны знать также и то, что Бармина, как инвалида Отечественной войны второй группы, получающего пенсию от государства, никто принудительно заставить работать не имеет права. Более того, вторая группа, как правило, освобождается от всех работ. Я говорю об этом вам, как юрист, знакомый с трудовым законодательством.
Кругляков катал по столу ребристый карандаш.
— Простите, где вы работаете?
— В Москве.
— Ваша специальность?
— Следователь прокуратуры.
Эти слова подействовали на Круглякова. Он как-то сразу размяк.
— А в наших местах, позвольте поинтересоваться, в отпуске? У вас что — родные здесь?
— Да, я здешний. Здесь родился, здесь вырос, отсюда был призван в армию. Здесь живет моя семья.
— Позвольте, это не ваш братец недавно нарисовал портрет для клуба?
— Мой. Вы и с ним поступить тоньше не смогли. Парень в портрет вложил всю душу, рисовал его два месяца, а вы с Кирбаем чуть ли не тюрьмой ему пригрозили.
Кругляков взглядом пробежал по раскрытому партийному билету, лежавшему на столе.
— Что вы! Что вы, Дмитрий Георгиевич! Да разве это я? Вы спросите у своего брата. Наоборот! Портрет мне очень понравился! Я с удовольствием повесил бы его у себя в кабинете! Но тут вся загвоздка получилась в том, что у него нет патента на право рисования вождей.
— Патент… — Дмитрий горько улыбнулся. — Нет права. Чтобы обидеть человека, вы опираетесь на право, на закон, на патент. Так почему же вы забыли о законах и о правах, когда решали судьбу Цыплакова и Бармина?
Кругляков повел плечами.
— Частично прошляпили. Я и сам это сейчас вижу. Но там, где рубят дрова, там всегда летят щепки. Это уж закон. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Приободренный Кругляков сел в кресло.
— Живые люди — не щепки. Я к вам среди ночи пришел узнать: думаете ли вы, как секретарь райкома, вмешаться в судьбу Цыплакова и Бармина, если считаете, что была совершена ошибка?
— Что вы имеете в виду? — Кругляков притаился. — Конкретно?
— Немедленно исправить ошибку!
— Каким образом?
— Освободить Цыплакова и Бармина из-под стражи и извиниться перед ними.
— Ну, это вы, товарищ Шадрин, опять хватили через край. Вы руководствуетесь эмоциями, а у нас в руках факты. А факты — это упрямая вещь. Если же на сходе было высказано недостаточно оснований и обвинений по адресу Цыплакова и Бармина, то завтра их в нашем распоряжении будет воз. Да, да, воз!
— Фальсификация? — в упор спросил Шадрин, все еще не желая садиться в кресло, на которое то и дело указывал Кругляков.
— Что вы имеете в виду?
— То, что я видел сегодня на сходе. Голосование было фикцией. Из двухсот присутствующих в зале за предложение Кирбая, когда решалась судьба Бармина, голосовало всего двадцать два человека.
— А против было всего только семь голосов.
Шадрин некоторое время молча смотрел на Круглякова.
— Я еще раз спрашиваю вас, товарищ Кругляков, думаете ли вы, как секретарь райкома, вмешаться в судьбу Бармина и, Цыплакова?
— Это что, простите, угроза или совет?
— Пока это только совет и только предупреждение. Не забывайте также, что вопрос о выселении Цыплакова не рассматривался на колхозном собрании, что Бармин инвалид Отечественной войны второй группы. — Дмитрий взял со стола партбилет, документы Бармина и положил их в карман.
— Что же вы намерены предпринять в противном случае? — настороженно спросил Кругляков.
— Пока об этих безобразиях доведу до сведения обкома партии. Если же и это не поможет, то есть ЦК, есть Москва!
— Ого, как высоко хватили! — Секретарь не то насмешливо, не то шутливо покачал головой. — А вы, я вижу, упорный.
Выйдя из-за стола, Кругляков положил свою короткую руку на плечо Шадрина.
— Вот что, товарищ Шадрин, вы не горячитесь. Я прекрасно понимаю ваше возмущение. Я сам когда-то тоже был молодым. Я думаю, этот вопрос мы решим с Кирбаем в рабочем порядке. Один я вам пока ничего определенного обещать не могу. Заверяю вас только в одном: вы убедили меня, и я, как секретарь райкома партии, сделаю все, чтоб поправить промахи. — Кругляков смолк, о чем-то задумавшись. Потом вздохнул. — А у кого, голубчик, не бывает этих промахов? — И снова показал на кресло. — Садись, в ногах правды нет.
— Спасибо. Я только прошу вас, товарищ Кругляков, вопрос о Цыплакове и Бармине решать как можно быстрее. Иначе нам с вами придется схватиться не на шутку и не на районной орбите.
— Я уже свое сказал, товарищ Шадрин. И если уж вас задел за живое сегодняшний сход, зайдите к Кирбаю и повторите ему то, что сказали мне.
— Хорошо. Я зайду к нему. Только пока никаких практических мер по переселению и по изъятию земельных участков у Бармина и Цыплакова прошу не предпринимать. Вы можете только усугубить свою ошибку. Так и скажите об этом Кирбаю.
На этом разговор закончился.
Шадрин вышел из кабинета секретаря. Стояла тихая ночь. Небо несколько просветлело. Подняв голову, Дмитрий стал искать Большую Медведицу. Как и десять и двадцать лет назад, перевернутым ковшом она висела над уснувшим селом, над школой, где он давным-давно из букв учился складывать первые слова «мама», «папа», «мама моет раму».
С набежавшим ветерком донеслись запахи камышистых озер с трясиной, пахнуло лабзой и кувшинками, которые в Сибири зовут огурчиками.
Домой Дмитрий вернулся поздно, когда пропели первые петухи. В разноголосом петушином хоре он узнал голос и своего огненно-красного, с зеленовато-бурой шеей крепконогого боевика. По тусклому свету, сочившемуся из кухонного окна, Дмитрий понял, что мать еще не спала: привернула коптюшку и ждала его.
Захаровна встретила сына молча, подала ему на стол ужин и ушла в горенку. По лицу сына она поняла, что ему сейчас не до разговоров.
Дмитрий выпил стакан молока и направился в чулан, не дотронувшись до хлеба.
Мать наблюдала из горенки.
— Что такой сердитый? Там пироги в решете, полотенцем накрыты.
— Спасибо, мама. Я не хочу, Сашка пришел?
— Да нет еще. То всегда приходил в десятом часу, а тут скоро светать будет, а его все нет.
Во дворе залаял Пират.
— Вот, кажется, и он! — Захаровна настороженно подняла голову, прислушиваясь. — По походке чую.
В дверь сенок постучали.
— Я так и знала, легкий на поминке.
Мать пошла открывать дверь.
Сашка вошел хмурый, чем-то расстроенный.
— Что с тобой? — спросила Захаровна.
— Гараську и Цыплакова жалко.
— Чего они?
— Как привели со схода, Гараська упал на землю и целый час рыдал, как малый ребенок. А Цыплаков уже второй день ничего не ест. Все, что приносит жена, отдает другим или отправляет назад.
Больше Дмитрий ни о чем не стал расспрашивать Сашку.
XV
На солнечном квадрате пола, перекатываясь клубком, котенок играл с бахромой зеленой филейной скатерти, которую Дмитрий помнил с самого раннего детства. Ножная швейная машинка «Зингер» выглядела жалкой, старой и очень маленькой. Раньше, когда детям запрещалось близко подходить к машинке, она казалась большой, сложной, непонятной. Дмитрию стало жалко того безвозвратно ушедшего с годами детского чувства тайного преклонения перед вещами, которые были доступны только взрослым.
На кухне хлопотала мать. Прислушиваясь к доносившимся до его слуха звукам, Дмитрий, догадался, что мать вынимает из печки хлеб. В ноздрях защекотал знакомый горячий запашок чуть подгоревшей на поду нижней корки. Дмитрий закрыл глаза. Через минуту ему уже казалось, что не было за плечами ни войны, ни Москвы, ни всего того, что легло между сегодняшним и тем днем, когда он в дождливый осенний день вместе со своим дружком Семеном Реутовым покинул родную станцию. Как и десять лет назад, шныряла по кухне заскочившая из сеней курица. Даже кудахтанье ее и то, кажется, не изменилось. Все с тем же неизменным «Кшы, проклятая!» гонялась за курицей мать, а та, треща крыльями, бросалась из угла в угол, пока не вылетала в сенки. Огромный чугун со щами все так же шершаво скреб горячий под. Докатив чугун на катке до чувала, мать двигала его уже упором в днище. Каждый звук, стук, скрежеток, доносившийся из кухни, Дмитрию рисовал зримую картину труда домохозяйки. А вот чугунно ахнула сковорода. Очевидно, она горячая. Мать схватила ее голыми руками и, не донеся до лавки, бросила. Потом загудел каток. Это задвигают в печь чугун.