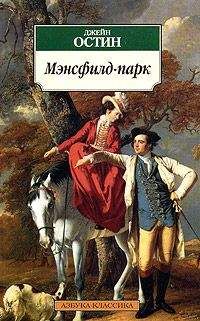Томас де Квинси - Убийство как одно из изящных искусств
Спиноза скончался 21 февраля 1677 года: ему едва исполнилось сорок четыре года. Смерть в таком возрасте сама по себе подозрительна, и автор указывает, что в рукописи содержится подтверждение вывода, «que sa mort n’a pas été tout-a-fait naturelle» [ «что смерть его была не совсем естественной» (фр.)]. Живя в сыром климате, да еще в такой моряцкой стране, как Голландия, Спиноза мог бы, конечно, злоупотреблять грогом, а в особенности пуншем [ «Июня 1, 1675. – Выпили три чаши пунша (напиток весьма для меня непривычный)», записал преподобный мистер Генрих Теонг в своем «Дневнике», опубликованном Ч. Найтом. В примечании к этому отрывку делается ссылка на книгу Фрайера «Путешествие в Вест-Индию» (1672), где упоминается «расслабляющий напиток под названием „пунш“» (что означает на языке хиндустани «пять»), из пяти ингредиентов. Приготовленный таким образом, именуется у медиков «квинта»; если составных частей только четыре – «кварта». Безусловно, именно это евангельское обозначение вызвало интерес к данному напитку у преподобного мистера Теонга. (Примеч. автора.)] – незадолго перед тем изобретенным. Вне сомнения, это было вполне возможно, однако этого не было. Месье Жан называет его «extrêmement sobre en son boire et en son manger» [ «чрезвычайно умеренным в еде и питье» (фр.)]. Ходили, правда, темные слухи о том, что Спиноза употреблял якобы сок мандрагоры[55] (с. 140) и опиум (с. 144), однако в счете от его аптекаря эти снадобья не значатся. При столь очевидной воздержанности как же он мог умереть естественной смертью в сорок четыре года? Послушаем рассказ биографа: «В воскресенье утром, 21 февраля, до начала церковной службы, Спиноза, спустившись вниз, беседовал с хозяином и хозяйкой дома». Как видим, в эту пору – около десяти утра – Спиноза был жив и вполне здоров. Однако, согласно биографу, он «вызвал из Амстердама врача, которого я бы предпочел обозначить инициалами Л. М.». Этот самый Л. М. предписал домовладельцам купить «старого петуха» и тотчас его сварить, с тем чтобы около полудня Спиноза откушал бульон, что – по возвращении из церкви хозяина с супругой – он и сделал, а также съел с аппетитом кусок старой курятины.
«После обеда Л. М. остался наедине со Спинозой, поскольку хозяева вновь отправились в церковь; явившись же домой, они, к величайшему своему изумлению, узнали о том, что Спиноза около трех часов дня скончался в присутствии Л. М., который тем же вечером отбыл в Амстердам, не уделив покойному ни малейшего внимания» – и, по-видимому, столь же равнодушно оставив свой скромный счет неоплаченным. «Он с явной готовностью сложил с себя свои обязанности, так как, завладев дукатами, горстью серебра и ножом с серебряной рукояткой, поспешил скрыться с добычей». Ясно, джентльмены, что перед нами убийство; очевиден и способ, каким оно было совершено. Убил Спинозу Л. М. – и убил из-за денег. Бедняга философ, тщедушный и изнуренный болезнью, был беспомощен: следов крови не оказалось. Л. М., скорее всего, опрокинул пациента на постель и задушил его с помощью подушки: несчастный и без того еле дышал после своего инфернального обеда. С трудом пережевав «старого петуха» (достигшего, полагаю, столетнего возраста), в состоянии ли был обессиленный инвалид одолеть доктора в рукопашной схватке? Но кто такой этот Л. М.? Уж наверняка не Линдли Маррей[56], которого я встречал в Йорке в 1825 году; к тому же я вовсе не считаю его способным на подобный поступок – во всяком случае, по отношению к собрату филологу: как вам известно, джентльмены, Спиноза – автор весьма почтенной грамматики древнееврейского языка.
Гоббс[57] – почему и на каком основании, мне непонятно – не был убит. Это крупнейший промах со стороны профессионалов семнадцатого века: Гоббс во всех отношениях представлял из себя превосходный объект для приложения сил, разве что отличался чрезмерной худобой; деньги у него, бесспорно, водились, но, что весьма забавно, он не имел ни малейшего права оказывать сопротивление убийце. Согласно его же собственному учению, могучая сила создает высшее право; поэтому отказ быть убитым является наихудшей разновидностью бунта – в том случае, если убивать тебя принимается достаточная власть. Впрочем, джентльмены, хотя Гоббс и не был убит, я счастлив заверить вас – по его же словам, он трижды стоял на краю гибели, что отчасти утешает. Впервые смерть угрожала философу весной 1640 года, когда, по его утверждению, он, от имени короля, распространил рукопись, направленную против парламента; впоследствии, кстати, он эту рукопись никому не мог предъявить; однако Гоббс заявляет: «Если бы его величество не распустил парламент (в мае), моя жизнь подверглась бы опасности». Роспуск парламента тем не менее пользы не принес, ибо в ноябре того же года был созван Долгий парламент[58] – и Гоббс, вторично убоявшись пасть жертвой насилия, бежал во Францию. Все это очень походит на манию Джона Денниса[59], полагавшего, что Людовик XIV[60] не заключит перемирия с королевой Анной[61] до тех пор, пока его (Денниса) не выдадут на расправу французским властям; под воздействием этого убеждения он даже бежал подальше от побережья. Во Франции Гоббс ухитрился уберечь свою глотку от посягательств на протяжении целых десяти лет, однако в конце этого срока, из желания подольститься к Кромвелю[62], опубликовал «Левиафан»[63]. Старый трус перепугался в третий раз: он уже ощущал холодное прикосновение роялистской шпаги к горлу, вспоминая, как обошлись с посланцами парламента в Гааге и Мадриде. «Tum», пишет он на своей чудовищной латыни:
Tum venit in mentem mihi Dorislaus et Ascham;
Tanquam proscripto terror ubique aderat.
[Тогда пришли мне на ум Дорислав и Эшем, и всюду был ужас как при объявлении вне закона (лат.).]
Соответственно, он бежал домой, в Англию. Не подлежит никакому сомнению, что автор «Левиафана» заслуживал избиения дубиной – или даже тремя дубинами – за написание пентаметрического стиха со столь вопиющей концовкой, как «terror ubique aderat». Но никто никогда и не считал его достойным другого орудия наказания, кроме дубины. По существу, вся эта хвастливая история от начала до конца выдумана им самим. В письме крайне оскорбительного свойства, адресованном «ученой особе» (подразумевался математик Валлис[64]), Гоббс излагает происшествие совершенно иначе: так, на странице 8 он утверждает, будто бежал на родину, «видя угрозу своей безопасности со стороны французского духовенства»; он намекает на вероятность расправы над ним как над еретиком, что было бы поистине великолепной шуткой: Фому Неверующего[65] предали бы казни за верность религии.
Выдумки выдумками, однако же известно со всей определенностью, что до конца жизни Гоббс страшился убийц. Доказательством служит история, которую я намерен вам поведать: взята она не из рукописи, хотя – по словам мистера Колриджа – не уступает рукописи, ибо заимствована из книги, ныне совершенно забытой, а именно: «Рассмотрение убеждений мистера Гоббса – в беседе между ним и студентом богословия»[66] (опубликована лет за десять до смерти философа). Книга вышла анонимно, но написана она Теннисоном – тем самым, который через тридцать лет сменил Тиллотсона[67] в должности архиепископа Кентерберийского. Во вступлении говорится: «Некий богослов (несомненно, это сам Тиллотсон) ежегодно путешествовал по острову на протяжении месяца. Во время одной из таких поездок (1670) он посетил Пик в Дербишире[68] – отчасти подвигнутый описанием Гоббса. Будучи в тех краях, он не мог не посетить Бакстон[69]; тотчас по прибытии ему посчастливилось встретить компанию джентльменов, спешившихся у дверей гостиницы: среди них был худой долговязый господин – не кто иной, как сам Гоббс, прискакавший верхом, очевидно, из Четсуорта [Четсуорт тогда, как и ныне, был роскошным поместьем самой знатной ветви рода Кавендишей – в те дни графов, в настоящее время герцогов Девонширских. К чести семейства, два его поколения предоставляли приют Гоббсу. Примечательно, что Гоббс родился в год нашествия Испанской Армады[70] – то есть в 1588-м (так, во всяком случае, мне представляется). Следовательно, при встрече с Теннисоном в 1670 году ему должно было быть около 82 лет. (Примеч. автора.)][71]. При знакомстве с подобной знаменитостью путешественник, ищущий живописного, не мог не представиться ему, даже рискуя прослыть надоедой. На его счастье, оба спутника мистера Гоббса были через посыльного неожиданно отозваны – и таким образом, до конца пребывания в Бакстоне, богослов заполучил Левиафана в свою безраздельную собственность – и был удостоен чести пить с ним по вечерам. Гоббс, по-видимому, держался вначале холодно, ибо сторонился лиц духовного звания, но затем смягчился и, выказав дружелюбие, настроился на шутливый лад; вскоре они договорились пойти вместе в баню. Как это Теннисон отважился плескаться в одной воде с Левиафаном – ума не приложу, однако именно так оно и происходило: оба резвились будто два дельфина, несмотря на весьма преклонный возраст Гоббса, а «в перерывах между плаванием и погружением с головой» (то есть нырянием) «рассуждали о многих предметах, касающихся античных бань и Истоков Сущего». Проведя так около часа, они вышли из бассейна – обсушились, оделись и сели в ожидании ужина; в намерения их входило подкрепиться подобно Deipnosophistae[72] и заняться не столько обильной выпивкой, сколько беседой. Но их невинные замыслы нарушил шум ссоры, затеянной незадолго перед тем малоотесанными обитателями дома. Мистер Гоббс казался сильно встревоженным, хотя собеседники и стояли поодаль. А почему он был так встревожен, джентльмены? Вы скажете, разумеется, что из кроткой и бескорыстной любви к покою, приличествующей старому человеку, да еще к тому же философу. Слушайте дальше: «Он не сразу овладел собой – и, понизив голос, озабоченно пересказал историю о том, как Секст Росций[73] был убит после ужина близ Палатинских купален[74]. Таково обобщение, заключенное в замечании Цицерона об Эпикуре Атеисте[75], который, по его словам, как никто другой страшился того, что презирал – смерти и богов». Только потому, что близился час ужина, а по соседству с ним находилась купальня, мистер Гоббс примерял к себе участь Секста Росция. Его, видите ли, должны убить так, как был убит Секст Росций. Кто еще нашел бы в этом хоть какую-то логику, кроме человека, которому постоянно мерещился убийца? Перед нами Левиафан, страшащийся не клинков английских роялистов, но «перепуганный до неприличия» сварой в пивной между честными дербиширскими олухами, которые сами до смерти перепугались бы от одного его вида – долговязого чучела минувшего века.