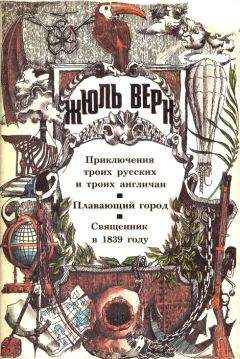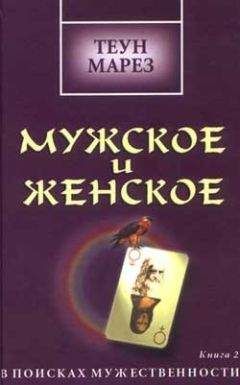Мара Будовская - Вечер в Муристане
Короче, советским школьникам это произведение было противопоказано. Решено было кастрировать «Кота». Мишка с Таей проделали эту процедуру за три вечера. Мишка после уроков приезжал на трамвае в Таиланд, и они, прерываясь на приступы смеха, до неузнаваемости уродовали новеллу Виана. Приступами смеха Мишка дорожил и нарочно длил их — Тая, заходясь хохотом, хватала его за руку или приваливалась лбом к его плечу.
Мишку умилял возвышенный быт Таиланда — диван с потрескавшимися кожаными валиками, отсутствие телевизора, многоэтажный буфет, фотографии Таиных родителей и строгого опрятного мужчины, оказавшегося писателем Михаилом Булгаковым. Умиляло его, как Тая топит толстую русскую печь — как ребёнка с ложечки кормит: «Скушай, моя милая, на здоровье, моя золотая». Умилял Таёза, гнездившийся в ушанке, брошенной Мишкой на диван.
Наконец, пьеса с циничной пометкой «по мотивам произведений Бориса Виана» была представлена на художественный совет директрисе и завучу.
Конечный, одобренный к постановке, продукт имел мало общего с исходным материалом. Петуха, с которым Кот дрался на подоконнике консъержки, прежде чем угодил в выгребную яму, да ещё старую сердобольную кошатницу оставили как есть. Остальные герои претерпели страшные метаморфозы. Толпа сутенёров, проституток и их клиентов превратилась в пионерский отряд, Петер Нья — в комсомольца Петю по прозвищу Пятерня, его сестра — в пионервожатую, проститутка и двое американских солдат втроём породили хулигана Женьку Американца. Злодей Женька и спаивает кота, но не в баре коньяком, а прямо на улице обыкновенной водкой.
Триумф и поцелуи
Поставил спектакль, что греха таить, Мишка. Во–первых, он придумал декорацию, которую из списанных парт и присланной шефами древесины соорудили во время уроков труда. Это был высокий пандус, разделяющий сцену горизонтально, — вниз должен был провалиться кот и провести там большую часть действия — для узника был оборудован тесный хорошо освещенный короб, а наверху должна была расположиться честная компания спасателей. Задник с нарисованной перспективой простой советской улицы, сквером и памятником Тая выпросила в театре. Это была толстая пыльная тряпка размером с три ковра и весом килограммов в двести пятьдесят.
Изготовленная в начале пятидесятых, декорация предназначалась для незапамятного спектакля, в котором необходимо было изображение памятника Сталину. Вскоре холст пришёл в политическую негодность. Сталина пробовали переделать в Ленина или Чайковского. Наконец, из него вышел превосходный Пржевальский, без гранитного постамента и бронзового верблюда, как в Александровском саду, зато с чёткой надписью «Николай Михайлович Пржевальский». С тех пор задник повис на одном из колосников в свернутом виде.
Мишка закрасил Пржевальского — Сталина плотной зелёной краской, превратив в толстое, с кроной от земли, дерево. Меж листьев ещё просвечивали эполеты и усы.
Роли Мишка распределил сам. Борька воплотил Петера Нья, то есть, простите, Пятерню. Катерина — его сестру. Роль Женьки — Американца Мишка взял себе. На роль Кота великодушно согласилась Тая. Вовка Колотушкин выпросил роль старой кошатницы. Он собственноручно соорудил себе костюм из плюшевой старушечьей кацавейки, к которой притачал трёх игрушечных кошек так, будто те сидели на плечах и спине своей покровительницы. Когда Вовка расхаживал в этом костюме по сцене, чучела болтали мягкими тяжёлыми хвостами и мерцали пластмассовой зеленью очей.
Остальные ушли в массовку. Впрочем, по замыслу режиссёра массовка ни в коем случае не должна была впустую топтать сцену. Он каждому придумал образ, способ игры, место, реквизит. Всё было расписано до секунд, Мишка твёрдо требовал выполнения своих предписаний, и самое удивительное — его слушались.
Уже на первых репетициях Тая поразила всех превращением в несчастного Кота. Тесное общение с шальным Таёзой не прошло даром. В чёрном трико и глухой шапочке с меховыми ушками она дралась, орала, ехидничала, напивалась водой из водочной бутылки, как коты надираются валерианкой, околевала по–настоящему, и когда хулиган Женька выбрасывал её обратно в зловонную яму, валилась на подстеленный мат с таким стуком, словно все кошачьи члены свело смертельной судорогой.
Спектакль уже был почти готов, когда на репетицию зашёл за дочерью старший Порохов. Он пришёл от постановки в такой восторг, что тут же достал саксофон и завернул блюз, переходящий от истеричного шепотка в кошачий уличный рёв. Мишка, задыхаясь от предвкушения, уговорил Порохова–папу присоединиться к труппе. Ему сколотили на декорации небольшой насест, где он, несмотря на занятость, согласился сидеть и комментировать происходящее саксофоном.
Школа тем временем уже два месяца жила без полноценного актового зала — на сцене громоздился пандус. Новогодние ёлки пришлось проводить в спортзале. Близились двадцать третье февраля с восьмым марта, а Мишка всё доводил свою постановку до совершенства. Администрация насела на Таю — мол, и так пошли во всём навстречу — дали зал, гвозди, парты, трудовика. Порадуйте премьерой.
И порадовали. Кот дрался, огрызался, напивался. Пятерня спасал, а Американец губил скромную зверюшечью жизнь. Игрушечные кошки шевелились на плечах Колотушкина. Массовка жила человеческими страстями — состраданием, жестокостью, жаждой отталкивающего зрелища. Саксофон то заходился в истерике, то — финальной нотой, — достигал божественных высот.
Это был триумф. Лазарский, посетивший премьеру по просьбе Таи, уломал директрису не разбирать декораций и дать ещё несколько спектаклей. Слух о тонком издевательстве над антиалкогольной кампанией пронёсся по городу. Актовый зал выдержал несколько аншлагов — труппа Драматического, коллектив филармонии, студенты университета — все ломились на спектакль, а затем директриса всё же велела разобрать декорацию.
Лазарский загорелся идеей приютить спектакль у себя на малой сцене, открыть на базе Таиного драмкружка студию, взять пожинающего плоды первой славы Мишку к себе в ученики. С этими надеждами и разобрали декорацию в школе.
Мишка, последние два месяца проживший в состоянии лихорадки — творческой и любовной, принялся столь же лихорадочно ждать обещанных событий. Занятия драмкружка вернулись в прежнее русло — этюды, декламация. Мишка время от времени он теребил Таю:
— Ну, что там Лазарский?
Тая долго ничего не говорила определённого, но как–то после репетиции отозвала Мишку в сторону:
— Миш, ничего не жди. Он прочитал рассказ Виана и понял, что любая серьезная комиссия начнёт с того же. Это же не наш завуч. И придётся долго объяснять, откуда взялся дружный пионерский отряд.
— Но он же может начать студию с нуля…
— Я поговорю с ним, но ты особенно не надейся.
— Что же делать?
— Смириться, что студию не откроют. — Тая помолчала. — Он очень высокого мнения о твоем таланте, но я не смогу его уговорить. Он меня бросил, а злится, как будто это я от него сбежала.
— Тая, ты все еще его любишь? — страшась ответа, задал вопрос Мишка.
— Нет, я давно уже люблю другого.
Тут Мишке стало уже не до студии, не до «Блюза» и не до Лазарского.
— Любишь? Кого? — прохрипел он умирающим шёпотом. И по вдоху, по улыбке, по кроткой слёзке в углу её левого глаза — понял. Его!
— Тая…
Для первого поцелуя это был подходящий момент, но неподходящее место. И они поехали на трамвае в Таиланд.
На таиландской трамвайной остановке, сидели те двое. Один из них, вновь пьянее другого, неестественно завалился затылком на спинку скамьи. Более трезвый обладал даром речи.
— Ты чё, трепетык, японский городовой, мало получил? За добавкой приехал? А девку чё поменял? Эта лучше, что ли, шапками кидается?
Мишка готов был принять бой, но Тая шепнула:
— Побежали! — и дёрнула его за собой.
Таиланд располагался в двух минутах скорого, со свистящими пролётами по ледяным раскатам, бега. Скоростная горка пролегла в коридоре между двух заборов — если неверно примешь первоначальное направление — тюкнешься об стенку и сойдёшь с дистанции, как плохо пущенный в кегельбане шар. Преследователь сильно отстал — ноги не так хорошо слушались его, как язык, и на первой же ледяной дорожке он растянулся, едва раскатившись. Его приятель так и остался полулежать на уличной скамье.
Поцелуйный момент пропал. Мишке пришлось рассказать о том, откуда он знает этих двоих, о китайских курсах, о маме, которая шапками кидалась. Тая спросила:
— У тебя мама что — молодо выглядит? Он её за твою девушку принял.
— Маме тридцать шесть. Она меня в двадцать лет родила.